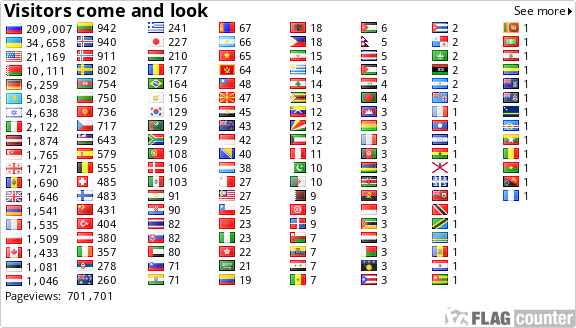Спорные страницы

Индивидуальный инструмент высшей концентрации мысли и чувства национального гения -
письменный стол И.Бродского, секретер, книги, фотографии,
пустые бутылки с памятных застолий и - зримо воплощенные дух и душа хозяина -
в день его отъезда навсегда
в эмиграцию. 4 июня 1972 года.
Фото М.Мильчика.
В двух статьях ниже рассказано о "периоде молчания",
вызванном шоком пересадки поэта в иную среду
и необходимостью создавать новые инструменты для интенсивного творчества...
И он их создал!
Из биографии:
Находясь перед студенческой аудиторией, он думал, размышлял и фантазировал вслух. И всегда ставил перед студентами самые сложные задачи. Один из студентов Бродского позднее вспоминал: «В первый день занятий, раздавая нам список литературы, он сказал: «Вот чему вы должны посвятить жизнь в течение следующих двух лет». Далее прилагается список: «Бхагаватгита», «Махабхарата», «Гильгамеш», Ветхий Завет... И еще сто книг. Тридцать из них греческая и латинская классика (трагики, поэты, философы). Далее - Блаженный Августин, Св. Франциск, Св. Фома Аквинский, Мартин Лютер, Кальвин... Данте, Петрарка, Боккаччо, Рабле, Шекспир, Сервантес, Челлини... Декарт, Спиноза, Гоббс, Паскаль, Локк, Юм, Лейбниц, Шопенгауэр, Кьеркегор… (но не Кант и не Гегель). Де Токвиль, Де Кюстин, Ортега-и-Гассет, Генри Адамс, Оруэлл, Ханна Арендт... Никакого пристрастия к соотечественникам, в списке только «Бесы» Достоевского, проза Мандельштама и мемуары его вдовы. Из прозы XX века - «Человек без чувств», «Молодой Торлесс», «Пять женщин» Музиля, «Невидимые города» Кальвино, рассказы Притчета, «Марш Радецкого» Йозефа Рота. Отдельный список 44 поэтов ХХ века. Он открывается именами Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Хлебникова,Заболоцкого. Важнейшей темой Бродского был язык. «Язык - начало начал. Если Бог для меня и существует, то это именно язык». Он был буквально одержим языком. Для него и поэзия - это не «лучшие слова в лучшем порядке», но «высшая форма существования языка».
Музей Бродского в Петербурге: Беседа с Михаилом Мильчиком
Ведущий Иван Толстой
Иван Толстой:
У истоков музея Иосифа Бродского. Рядом со мной в пражской студии петербургский ученый, многолетний друг поэта, инициатор создания в Петербурге в ленинградской квартире Бродского мемориального музея Михаил Мильчик. Музея пока нет. Мы у его истоков. Михаил Исаевич, скажите пожалуйста, когда родилась идея создания музея?
Михаил Мильчик:
Вы услышите очень странный, но очень точный ответ. Она родилась 4 июня 1972 года, то есть в день отъезда Иосифа из Ленинграда. Мы, это немногие его друзья, которые провожали его в аэропорту Пулково, понимали, с кем мы прощались и какую ценность для литературы, для жизни России будет иметь Иосиф. Вот поэтому, вернувшись вечером из Пулково, я попросил ничего не убирать Марию Моисеевну, мать Иосифа, в квартире и в его комнате и сфотографировал детали, потому что понимал, что когда-то, конечно, я до этого не доживу, я был в этом уверен, что когда-то музейщикам очень понадобятся эти фотографии для того, чтобы воссоздать обстановку полутора комнат, в которых жил поэт и которые потом стали героями его известного эссе.
Иван Толстой:
А сколько было в этом вашем настроении, в этой вашей уверенности, в этих ваших действиях, сколько было полушутки, полу какого-то ребячества в этом фотографировании, а сколько было серьезной уверенности в том, что такие времена должны наступить?
Михаил Мильчик:
Вопрос сложный. Пожалуй, ребячества-то не было вообще. Была печаль расставания, мы в те оды были абсолютно убеждены, что мы расстаемся навсегда. И Иосиф так думал и все, кто оставался здесь, так думали, хотя часть из тех, кто был тогда в аэропорту уехали потом в эмиграцию. Так что здесь было скорее не ребячество, а печаль и стремление оставить для себя в памяти то, что связано было с Бродским, с той обстановкой, в которой все мы часто бывали. Но, с другой стороны, была подспудная уверенность, что рано или поздно это потребуется. Мы, конечно, даже не думали, что это так скоро потребуется, но рукописи не горят, хотя, конечно, горят, пленка все-таки остается, и я надеялся, что рано или поздно это кому-то может пригодиться. Вот, к моему великому изумлению, счастью и удивлению я до этого времени дожил.
Иван Толстой:
Михаил Исаевич, и что же в будущем, я надеюсь, достаточно скором, можно будет показать посетителям?
Михаил Мильчик:
Все-таки эта квартира на углу Пестеля и Литейного проспекта в знаменитом доме Мурузи, эта квартира исключительна не только потому, что она описана самим поэтом, потому что это те самые полторы комнаты, с другой это не только полторы комнаты, это большая коммунальная квартира, в которой не только жил, но и сформировался поэт, и все, что вокруг него, вспомним хотя бы Спасо-Преображенский собор, это все в той или иной степени вошло в его стихи, вошло в его сознание и продолжало с ним жить, я в этом абсолютно уверен и знаю это, продолжало жить вплоть до самых последних дней его жизни. Поэтому это удивительное место, которое возможно воссоздать с максимально полной достоверностью. И многое сохранилось. Достаточно сказать - письменный стол, книжные полки, почти вся библиотека сохранилась большими стараниями Якова Аркадьевича Гордина. Он много для этого сделал. Много вещей у родственников, у знакомых, сохранились рукописи и так далее. То есть можно воссоздать не только на аналогах, а, прежде всего, на подлинных вещах. Не буду рассказывать, это всем ясно, что подлинность обладает каким-то удивительным смыслом, чувством, энергией, которую никогда не заменит самая удачная копия. Так вот, можно показать мемориальные полторы комнаты. А что касается остальной квартиры, то мы, а мы - это фонд создания литературного музея Иосифа Бродского, мы думаем, что там можно показать какие-то черты коммунального быта, которые, как вы понимаете, молодежи почти не знаком.
Иван Толстой:
Тогда зачем же коммунальную квартиру расселять, надо всех оставить на месте. Я думаю, какие-нибудь иностранные слависты, приезжая в Петербург, будут как раз заинтересованы посмотреть на настоящий быт?
Михаил Мильчик:
В ваших словах есть доля истины, и даже мы думаем, что можно откырть музей в этих полутора комнатах при наличии одного или двух жильцов, если они не пожелают получить приличную по современным стандартам площадь. Оставить их на какое-то время.
Иван Толстой:
Как Лев Толстой выходил пахать к курьерскому, так жильцы могут на время посещения группой квартиры устраивать скандальчик какой-то.
Михаил Мильчик:
Это уже театр поучается. Но все-таки какие-то черты коммунального быта стоит сохранить. Но не в коем случае не всю квартиру со всеми ее «прелестями» коммунальной жизни, потому что мы не думаем, что это должен быть только музей Бродского. Это должен быть музей нонконформистской культуры Ленинграда 60-80 годов. Это должна быть атмосфера та, в которой сформировался и жил поэт, а это, следовательно, и его окружение, его друзья ближние или дальние. То есть это та культура, которая пока не нашла отражения нигде. Может быть, только чуть-чуть и то одним боком в прекрасном и очень ценимом всеми нами музее Ахматовой, который, кстати сказать, расположен совсем неподалеку - на том же Литейном проспекте. Так что это второй момент, что это не только Бродский. И третий момент - это удивительный дом. Это тоже предмет нашей заботы и мы стремимся и думаем представить в какой-то степени и жизнь этого совершенно необычного дома.
Иван Толстой:
То есть вы хотели бы, чтобы в этом музее, в пределах этой квартиры была представлена история дома?
Михаил Мильчик:
Вы спросили в пределах квартиры. Мы когда сейчас готовили концепцию музея к 60-летию поэта, мы поняли, что в пределах квартиры всего этого не показать. И мы поняли, что для этого нужна еще дополнительная площадь, так же, как это сделано в музее Зощенко, в упомянутом только что музее Ахматовой и так далее. Так что строго говоря мы не можем ограничиться этой квартирой, потому что мы хотим хоть как-то рассказать и показать, какое место в петербургской культуре занимал дом Мурузи. И каким образом судьба Иосифа переплелась с судьбой самого дома, и я скажу даже больше - петербургской литературы первой половины нашего или уходящего столетия.
Иван Толстой:
Что же получается, в этом доме жили и другие литераторы, довольно известные имена в начале века, в Серебряном веке. Кто это был?
Михаил Мильчик:
Прежде всего, два наиболее громких имени - это Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. Сам Иосиф думал, что он занимает малую толику большой квартиры этих двух выдающихся литераторов Серебряного века. Но наши разыскания, и тут, в частности, я должен вспомнить книжечку, посвященную дому Мурузи Александра Кобака и Льва Лурье, выяснилось, что они жили не на втором, а на третьем этаже, но действительно в этой части дома. Кроме того, здесь находился «Союз поэтов», который возглавлял Николай Гумилев. Сюда приходили Александр Блок, Клюев, Сергей Есенин и, строго говоря, чуть ли не все литераторы Петербурга и Петрограда. И они все в большей или меньшей степени были связаны с этим домом. Кстати, сам Иосиф вспоминал, что как-то ему подробно рассказывала Анна Андреевна Ахматова, что ее вскоре после того, как дом был построен, ее, совсем еще девочкой, водили показывать этот дом, как некую диковинку для Петербурга, потому что он был решен в мавританском стиле.
Иван Толстой:
Какое же отношение у общественности, простите мне это слово, к такой затее? Ваш путеводитель показывает, по крайней мере, его проспект показывает, что и мемориальная доска уже висит на доме и вообще с этим зданием связано имя Бродского в сознании петербуржцев?
Михаил Мильчик:
Это верно, доска в 1996 году в день рождения Бродского была действительно установлена, правда на том фасаде дома, который выходит на Литейный, а квартира или те три окна, которые связаны с квартирой Бродского, выходят на улицу Пестеля, бывшую Пантелеймоновскую, но это уже действительно второстепенный момент. Как относится общественность? Я бы сказал заинтересованно. Очень активно нас поддерживает Нина Ивановна Попова - директор музея Ахматовой, хотя, скажу откровенно, мы опасались, что она эту идею воспримет как некое соперничество. Нет, наоборот. Тем более, что мы собираемся сделать музей, который в чем-то дополнял, а в чем-то по другому был устроен, чем музей Ахматовой. Так что ей кажется, что это очень полезное начинание. Очень положительно восприняли все участники конференции, посвященной 60-летию Бродского, когда мы рассказывали об этой концепции. Но, тем не менее, идея существует, фонд существует, счет рублевый у нас в фонде тоже существует, мы предполагаем, что этот музей будет корпоративный, не государственный и не частный. То есть будет принадлежать группе лиц или, иначе говоря, фонду, который будет создавать эту сложную экспозицию. Я еще забыл упомянуть одну очень важную деталь - в этой экспозиции очень большую роль будут играть новые средства: с помощью компьютера, интернета мы постараемся как можно шире показать поэта, его творчество, его жизнь, с тем чтобы люди, приходящие сами, могли найти ответы на многие вопросы, которые их интересуют. Здесь же в одном помещении, в самой большой комнате, но не мемориальной, предполагается устройство поэтических вечеров, семинаров, диспутов. Здесь же предполагается и библиотека, в которую можно было бы приходить не только для того смотреть книги, а для того, чтобы их читать. Библиотека, преимущественно освящающая нонконформистскую сторону культуры Ленинграда 60-80 годов. Кстати, небезинтересно будет вам услышать, что сейчас мы работаем над большим сайтом для интерента, посвященном Бродскому, который не только будет рассказывать о самой квартире, об идее музея, но и сделает сводку всех уже ныне существующих сайтов, посвященных Бродскому и будет своего рода указателем для тех, кто откроет наш сайт.
Иван Толстой:
Михаил Исаевич, вот вы сказали, что форма собственности будет корпоративной, не государственной и не частной. Не могли бы вы пояснить, какой тут ньюанс, почему это так важно?
Михаил Мильчик:
Дело в том, что два года тому назад группа видных деятелей нашей российской культуры, а также лауреаты нобелевской премии, среди этих людей я должен назвать покойного Дмитрия Сергеевича Лихачева, здравствующих Мстислава Леопольдовича Ростроповича, Галину Вишневскую, Андрея Петрова, обратилась к губернатору Петербурга Яковлеву с просьбой помочь созданию музея в квартире Бродского. Яковлев ответил положительно, однако прошло уже почти два года и город не предпринял никаких усилий для того, чтобы выкупить эту квартиру, иначе говоря, расселить ее. Я понимаю, что у города трудности с финансами и, может быть, и другие причины. Вот почему мы решили не ждать больше такой материальной поддержки города, хотя другая поддержка нам безусловно необходима, и начать сбор средств, для того, чтобы собрать нужную сумму, расселить эту квартиру и по крайней мере первоначальную экспозицию постараться успеть открыть к 300-летию Петербурга. Но я не совсем ответил на ваш вопрос. Во-первых, тут есть момент, может быть, странный. Многим из нас кажется, что Иосифу было бы трудно себе представить, что в его квартире создан государственный музей. Хотя я понимаю, что сегодняшняя Россия - это не Россия советская, не вчерашний день, но тем не менее. Государство есть государство. Отношения Иосифа с государством были, скажем, напряженные. Хотелось бы не зависеть или в малой степени зависеть от государства, хотя город, конечно, должен, с моей точки зрения, сделать какие-то усилия для того, чтобы создать такой музей, помочь, потому что это музей в городе, это музей во славу города и отделяться от городских властей было бы неразумно. Но, тем не менее, мы имеем уже пример такого музея. Я имею в виду хорошо вам знакомый музей на Большой Морской улице, музей Владимира Набокова. Он не государственный музей и, как вы знаете, существует, не решусь сказать процветает, но живет достаточно полнокровной жизнью. Значит, такие музеи в принципе возможны. Когда музей будет корпоративный - это значит, что ни его экспонаты, ни уж тем более сама квартира не будут принадлежать отдельным членам, они могут уходить, к великому сожалению, покидать сей мир. Но, тем не менее, корпорация, то есть правление фонда будет продолжать существовать. И это правление будет диктовать форму этого музея, особенности его функционирования и так далее. Мне кажется, что это наиболее разумное решение, потому что оно дает возможность максимально полно выразить волю тех, кому творчество поэта не просто не безразлично, а тех кто его любит, многие из них были его друзьями, знакомыми и так далее.
Иван Толстой:
Михаил Исаевич, а что нужно сделать для того, чтобы в такой квартире мемориальный жил дух поэта?
Михаил Мильчик:
Трудно ответить на этот вопрос. Мне кажется, что ни в коем случае не нужно ограничиваться чистой мемориальностью. То есть вот стол, вот стул. Хотя это все должно присутствовать в этих полутора комнатах. Там должен звучать голос. Это, слава богу, возможно сделать, поскольку много записей. Там должен быть облик поэта. И это опять возможно, потому что существует довольно много фильмов, достаточно подробно показывающих в разные периоды жизни Бродского. И, самое главное, там должны жить интересы людей, которые сегодня заинтересованы в творчестве Бродского - то есть молодежь с их творчеством сегодняшним, с их заботами. То есть это должен быть музей, который не только обращен в прошлое, но обращен не в меньшей степени в настоящее. И вот на стыке обращения к прошлому и настоящему, мне кажется, и родится тот самый дух, который может быть был бы любезен Бродскому. Потому что музейщину он всегда очень не любил. И мне не хотелось бы в этом смысле заслужить его порицание. Хотя почти уверен, что ему бы все равно музей не понравился, каким бы его не сделали.
Источник: http://www.svoboda.org/programs/OTB/2001/OBT.062801.asp
Константин Плешаков. "Бродский в Маунт-Холиоке":
Похоже, по-настоящему ему отравляло жизнь только одно: поголовная болезнь американской молодежи — беспробудное невежество. Однажды, как видно выведенный из себя особенно безнадежным классом, Бродский сел за машинку и наспех составил «Список книг, которые должен прочесть каждый». Он сохранился у Эдвины Круз.
Список книг, которые должен прочесть каждый
«Бхагавад гита»
«Махабхарата»
«Гильгамеш»
Ветхий Завет
Гомер: «Илиада», «Одиссея»
Геродот: «История»
Софокл: пьесы
Эсхил: пьесы
Еврипид: пьесы «Ипполит», «Вакханки», «Электра», «Финикиянки»
Фукидид: «История Пелопоннесской войны»
Платон: «Диалоги»
Аристотель: «Поэтика», «Физика», «Этика», «О душе»
Александрийская поэзия
Лукреций: «О природе вещей»
Плутарх: «Жизнеописания»
Вергилий: «Энеида», «Буколики», «Георгики»
Тацит: «Анналы»
Овидий: «Метаморфозы», «Героиды», «Наука любви»
Новый Завет
Светоний: «Жизнеописания двенадцати цезарей»
Марк Аврелий
Катулл
Гораций
Эпиктет
Аристофан
Элиан: «Пестрые истории», «О природе животных»
Аполлодор: «Аргонавтика»
Пселл: «Жизнеописание правителей Византии»
Гиббон: «История упадка и разрушения Римской империи»
Плотин: «Эннеады»
Евсевий: «Церковная история»
Боэций: «Об утешении философией»
Плиний Младший: «Письма»
Византийские стихотворные романы
Гераклит: «Фрагменты»
Августин: «Исповедь»
Фома Аквинский: «Summa Theologica»
Св. Франциск: «Цветочки»
Николло Макиавелли: «Государь»
Данте: «Божественная комедия»
Франко Саккетти: новеллы
Исландские саги
Шекспир: «Антоний и Клеопатра», «Гамлет», «Макбет», «Генрих V»
Рабле
Бэкон
Мартин Лютер
Кальвин
Монтень: «Опыты»
Сервантес: «Дон Кихот»
Декарт
«Песнь о Роланде»
«Беовульф»
Бенвенуто Челлини
Генри Адамс: «Воспитание Генри Адамса»
Гоббс: «Левиафан»
Паскаль: «Мысли»
Мильтон: «Потерянный рай»
Джон Донн, Эндрю Марвелл, Джордж Херберт, Ричард Крошоу
Спиноза: «Трактаты»
Стендаль: «Пармская обитель», «Красное и черное», «Жизнь Анри Брюлара»
Свифт: «Путешествия Гулливера»
Лоренс Стерн: «Тристан Шэнди»
Шодерло де Лакло: «Опасные связи»
Монтескье: «Персидские письма»
Локк: «Второй трактат о правительстве»
Адам Смит: «Благосостояние наций»
Лейбниц
Юм
Тексты федералистов (работы Джеймса Мэдисона, Александра Гамильтона и Джона Джея 1780-х годов в поддержку американской конституции. — К. П.)
Кант: «Критика чистого разума»
Кьеркегор: «Страх и трепет», «Или-или», «Философские фрагменты»
Достоевский: «Записки из подполья», «Бесы»
Гете: «Фауст», «Итальянское путешествие»
Токвиль: «О демократии в Америке»
Де Кюстин: «Путешествие наших дней (Империя царя)» (http://www.krotov.info/libr_min/k/kasyanov/kus_07.html)
Эрик Ауэрбах: «Мимезис»
Прескотт: «История завоевания Мексики»
Октавио Пас: «Лабиринты одиночества»
Карл Поппер: «Логика научного открытия», «Открытое общество и его враги»
Элиас Канетти: «Толпа и власть»Судя по автографу, список составлен вчерне и наспех, кое-где значительно поправлен Бродским. Понятно, что он неполон. Однако некоторые выпускники, его бывшие студенты, все еще работают по нему.
Бенгт Янгфельдт:
Но, как было сказано, рабочее пространство не должно было быть слишком большим. Если на участке стоял домик для гостей, он выбирал его. И в нашей квартире он сразу указал на облюбованное им место: балкон для выбивания ковров, размером примерно с каюту на „Мэларгроттнингене“, возможно, немного меньше. В любом случае не десять квадратных метров, как та комната, которая на всю жизнь определила представление Бродского об идеальном пространстве. Те десять квадратных метров были частью „полутора комнат“ в коммунальной квартире в центре Ленинграда, описанных им в одном из лучших воспоминаний детства по-английски в русской литературе. Там он жил до изгнания в 1972 году, там же умерли его родители, в отсутствие сына, спустя десять с лишним лет: Литейный проспект, 24, квартира 28. „Моя половина, — пишет он, — соединялась с их комнатой двумя широкими арками, доходившими почти до потолка, которые я постоянно пытался заставить сложными конфигурациями из книжных полок и чемоданов, чтобы, отгородившись от родителей, обрести относительную степень покоя. Речь может идти лишь об относительной степени, поскольку высота и ширина арок плюс мавританское завершение их верхней части исключали окончательный успех дела“. Строительство баррикады, начавшееся в пятнадцать лет, становилось все более ожесточенным, по мере того как книги и гормоны требовали своего. Переделав шкаф — отодрав заднюю стенку, но сохранив дверцы, — Бродский получил отдельный вход на свою половину: посетителям приходилось пробираться через эти дверцы и драпировку. А чтобы скрыть природу некоторых действий, происходивших за баррикадой, он включал проигрыватель и ставил классическую музыку. Со временем родители стали ненавидеть И.С.Баха, но музыкальный фон исполнял свою функцию, и „Марианна могла обнажить больше, чем только грудь“. Когда, со временем, музыку стало дополнять тарахтение „Ундервуда“, отношение родителей стало более снисходительным. „Это, — пишет Бродский, — было моим „Lebens- raum“ (жизненным пространством). Мать убирала его, отец проходил его, направляясь в свою домашнюю фотолабораторию, иногда кто-нибудь из родителей искал пристанища в моем потертом кресле после перебранки. В остальном же эти десять квадратных метров были мои, и это были самые лучшие десять квадратных метров из всех, что я когда-либо имел“. Бродскому никогда больше не довелось увидеть ни своих родителей, ни того Lebensraum, которое он почти с маниакальным упорством пытался воссоздать в других местах в течение оставшейся жизни. Он никогда не увидел своей комнаты потому, что никогда не вернулся в родной город; а не вернулся он в родной город потому, что его мышление — и действия — были линейными: „Человек двигается только в одну сторону. И только — ОТ. От места, от той мысли, которая пришла ему в голову, от самого себя“. Короче говоря, потому, что с тридцати двух лет он был кочевником — вергилиевским героем, осужденным никогда не возвращаться назад. Тем не менее он много раз собирался, во всяком случае — мысленно. После получения Нобелевской премии, а главное, после падения тирании, когда появилась возможность вернуться, ему часто задавали вопрос, почему он не едет. Доводов было несколько: он не желал приезжать туристом в родную страну. Или: он не желал приезжать по приглашению официальных учреждений. Последний был: „Лучшая часть меня уже там — мои стихи“.Из "Школьной антологии" 1. Э. Ларионова Э.Ларионова. Брюнетка. Дочь полковника и машинистки. Взглядом напоминала взгляд на циферблат. Она стремилась каждому помочь. Однажды мы лежали рядом на пляже и крошили шоколад. Она сказала, поглядев вперед, туда, где яхты не меняли галса, что если я хочу, то я могу. Она любила целоваться. Рот напоминал мне о пещерах Карса. Но я не испугался. Берегу воспоминанье это, как трофей, уж на каком-то непонятном фронте отбитый у неведомых врагов. Любитель сдобных баб, запечный котофей, Д.Куликов возник на горизонте, на ней женился Дима Куликов. Она пошла работать в женский хор, а он трубит на номерном заводе. Он - этакий костистый инженер... А я все помню длинный коридор и нашу свалку с нею на комоде. И Дима - некрасивый пионер. Куда все делось? Где ориентир? И как сегодня обнаружить то, чем их ипостаси преображены? В ее глазах таился странный мир, еще самой ей непонятный. Впрочем, не понятый и в качестве жены. Жив Куликов. Я жив. Она - жива. А этот мир - куда он подевался? А может, он их будит по ночам?.. И я все бормочу свои слова. Из-за стены несутся клочья вальса, и дождь шумит по битым кирпичам... 2. О.Поддобрый Олег Поддобрый. У него отец был тренером по фехтованью. Твердо он знал все это: выпады, укол. Он не был пожирателем сердец. Но, как это бывает в мире спорта, он из офсайда забивал свой гол. Офсайд был ночью. Мать была больна, и младший брат вопил из колыбели. Олег вооружился топором. Вошел отец, и началась война. Но вовремя соседи подоспели и сына одолели вчетвером. Я помню его руки и лицо, потом - рапиру с ручкой деревянной: мы фехтовали в кухне иногда. Он раздобыл поддельное кольцо, плескался в нашей коммунальной ванной... Мы бросили с ним школу, и тогда он поступил на курсы поваров, а я фрезеровал на "Арсенале". Он пек блины в Таврическом саду. Мы развлекались переноской дров и продавали елки на вокзале под Новый Год. Потом он, на беду, в компании с какой-то шантрапой взял магазин и получил три года. Он жарил свою пайку на костре. Освободился. Пережил запой. Работал на строительстве завода. Был, кажется, женат на медсестре. Стал рисовать. И будто бы хотел учиться на художника. Местами его пейзажи походили на - на натюрморт. Потом он залетел за фокусы с больничными листами. И вот теперь - настала тишина. Я много лет его не вижу. Сам сидел в тюрьме, но там его не встретил. Теперь я на свободе. Но и тут нигде его не вижу. По лесам он где-то бродит и вдыхает ветер. Ни кухня, ни тюрьма, ни институт не приняли его, и он исчез. Как Дед Мороз, успев переодеться. Надеюсь, что он жив и невредим. И вот он возбуждает интерес, как остальные персонажи детства. Но больше, чем они, невозвратим. 3. Т.Зимина Т.Зимина, прелестное дитя. Мать - инженер, а батюшка - учетчик. Я, впрочем, их не видел никогда. Была невпечатлительна. Хотя на ней женился пограничный летчик. Но это было после. А беда с ней раньше приключилась. У нее был родственник. Какой-то из райкома. С машиною. А предки жили врозь. У них там было, видимо, свое. Машина - это было незнакомо. Ну, с этого там все и началось. Она переживала. Но потом дела пошли как будто на поправку. Вдали маячил сумрачный грузин. Но вдруг он угодил в казенный дом. Она же - отдала себя прилавку в большой галантерейный магазин. Белье, одеколоны, полотно - ей нравилась вся эта атмосфера, секреты и поклонники подруг. Прохожие таращатся в окно. Вдали - Дом Офицеров. Офицеры, как птицы, с массой пуговиц, вокруг. Тот летчик, возвратившись из небес, приветствовал ее за миловидность. Он сделал из шампанского салют. Замужество. Однако в ВВС ужасно уважается невинность, возводится в какой-то абсолют. И этот род схоластики виной тому, что она чуть не утопилась. Нашла уж мост, но грянула зима. Канал покрылся коркой ледяной. И вновь она к прилавку торопилась. Ресницы опушила бахрома. На пепельные волосы струит сияние неоновая люстра. Весна - и у распахнутых дверей поток из покупателей бурлит. Она стоит и в сумрачное русло глядит из-за белья, как Лорелей. 4. Ю.Сандул Ю.Сандул. Добродушие хорька. Мордашка, заострявшаяся к носу. Наушничал. Всегда - воротничок. Испытывал восторг от козырька. Витийствовал в уборной по вопросу, прикалывать ли к кителю значок. Прикалывал. Испытывал восторг вообще от всяких символов и знаков. Чтил титулы и звания, до слЈз. Любил именовать себя "физорг". Но был старообразен, как Иаков, считал своим бичем фурункулез. Подвержен был воздействию простуд, отсиживался дома в непогоду. Дрочил таблицы Брадиса. Тоска. Знал химию и рвался в институт. Но после школы загремел в пехоту, в секретные подземные войска. Теперь он что-то сверлит. Говорят, на "Дизеле". Возможно и неточно. Но точность тут, пожалуй, ни к чему. Конечно, специальность и разряд. Но, главное, он учится заочно. И здесь мы приподнимем бахрому. Он в сумерках листает "Сопромат" и впитывает Маркса. Между прочим, такие книги вечером как раз особый источают аромат. Не хочется считать себя рабочим. Охота, в общем, в следующий класс. Он в сумерках стремится к рубежам иным. Сопротивление металла в теории приятнее. О да! Он рвется в инженеры, к чертежам. Он станет им, во что бы то ни стало. Ну, как это... количество труда, прибавочная стоимость... прогресс... И вся эта схоластика о рынке... Он лезет сквозь дремучие леса. Женился бы. Но времени в обрез. И он предпочитает вечеринки, случайные знакомства, адреса. "Наш будущий - улыбка - инженер". Он вспоминает сумрачную массу и смотрит мимо девушек в окно. Он одинок на собственный манер. Он изменяет собственному классу. Быть может, перебарщиваю. Но использованье класса напрокат опаснее мужского вероломства. - Грех молодости. Кровь, мол, горяча. - я помню даже искренний плакат по поводу случайного знакомства. Но нет ни диспансера, ни врача от этих деклассированных, чтоб себя предохранить от воспаленья. А если нам эпоха не жена, то чтоб не передать такой микроб из этого - в другое поколенье. Такая эстафета не нужна. 5. А.Чегодаев А.Чегодаев, коротышка, врун. Язык, к очкам подвешенный. Гримаса сомнения. Мыслитель. Обожал касаться самых задушевных струн в сердцах преподавателей - вне класса. Чем покупал. Искал и обнажал пороки наши с помощью стенной с фрейдистским сладострастием (границу меж собственным и общим не провесть). Родители, блистая сединой, доили знаменитую таблицу. Муж дочери создателя и тесть в гостиной красовались на стене и взапуски курировали детство то бачками, то патлами брады. Шли дни, и мальчик впитывал вполне полярное величье, чье соседство в итоге принесло свои плоды. Но странные. А впрочем, борода верх одержала (бледный исцелитель курсисток русских отступил во тьму): им овладела раз и навсегда романтика больших газетных литер. Он подал в Исторический. Ему не повезло. Он спасся от сетей, расставленных везде военкоматом, забился в угол. И в его мозгу замельтешила масса областей познания: Бионика и Атом, проблемы Астрофизики. В кругу своих друзей, таких же мудрецов, он размышлял о каждом варианте: какой из них эффектнее с лица. Он подал в Горный. Но в конце концов нырнул в Автодорожный, и в дисканте внезапно зазвучала хрипотца: "Дороги есть основа... Такова их роль в цивилизации... Не боги, а люди их... Нам следует расти..." Слов больше, чем предметов, и слова найдутся для всего. И для дороги. И он спешил их все произнести. Один, при росте в метр шестьдесят, без личной жизни, в сутолоке парной чем мог бы он внимание привлечь? Он дал обет, предания гласят, безбрачия - на всякий, на пожарный. Однако покровительница встреч Венера поджидала за углом в своей миниатюрной ипостаси - звезда, не отличающая ночь от полудня. Женитьба и диплом. Распределенье. В очереди к кассе объятья новых родственников: дочь! Бескрайние таджикские холмы. Машины роют землю. Чегодаев рукой с неповзрослевшего лица стирает пот оттенка сулемы, честит каких-то смуглых негодяев. Слова ушли. Проникнуть до конца в их сущность он - и выбраться по ту их сторону - не смог. Застрял по эту. Шоссе ушло в коричневую мглу обоими концами. Весь в поту, он бродит ночью голый по паркету не в собственной квартире, а в углу большой земли, которая -- кругла, с неясной мыслью о зеленых листьях. Жена храпит... о Господи, хоть плачь... Идет к столу и, свесясь из угла, скрипя в душе и хорохорясь в письмах, ткет паутину. Одинокий ткач. 6. Ж.Анциферова Анциферова. Жанна. Сложена была на диво. В рубенсовском вкусе. В фамилии и имени всегда скрывалась офицерская жена. Курсант-подводник оказался в курсе голландской школы живописи. Да простит мне Бог, но все-таки как вещ бывает голос пионерской речи! А так мы выражали свой восторг: "Берешь все это в руки, маешь вещь!" и "Эти ноги на мои бы плечи!" ...Теперь вокруг нее - Владивосток, сырые сопки, бухты, облака. Медведица, глядящаяся в спальню, и пихта, заменяющая ель. Одна шестая вправду велика. Ложась в постель, как циркуль в готовальню, она глядит на флотскую шинель, и пуговицы, блещущие в ряд, напоминают фонари квартала и детство и, мгновение спустя, огромный, черный, мокрый Ленинград, откуда прямо с выпускного бала перешагнула на корабль шутя. Счастливица? Да. Кройка и шитье. Работа в клубе. Рейды по горящим осенним сопкам. Стирка дотемна. Да и воспоминанья у нее сливаются все больше с настоящим: из двадцати восьми своих она двенадцать лет живет уже вдали от всех объектов памяти, при муже. Подлодка выплывает из пучин. Поселок спит. И на краю земли дверь хлопает. И делается у'же от следствий расстояние причин. Бомбардировщик стонет в облаках. Хорал лягушек рвется из канавы. Позванивает горка хрусталя во время каждой стойки на руках. И музыка струится с Окинавы, журнала мод страницы шевеля. 7. А.Фролов Альберт Фролов, любитель тишины. Мать штемпелем стучала по конвертам на почте. Что касается отца, он пал за независимость чухны, успев продлить фамилию Альбертом, но не видав Альбертова лица. Сын гений свой воспитывал в тиши. Я помню эту шишку на макушке: он сполз на зоологии под стол, не выяснив отсутствия души в совместно распатроненной лягушке. Что позже обеспечило простор полету его мыслей, каковым он предавался вплоть до института, где он вступил с архангелом в борьбу. И вот, как согрешивший херувим, он пал на землю с облака. И тут-то он обнаружил под рукой трубу. Звук - форма продолженья тишины, подобье развивающейся ленты. Солируя, он скашивал зрачки на раструб, где мерцали, зажжены софитами, - пока аплодисменты их там не задували - светлячки. Но то бывало вечером, а днем - днем звезд не видно. Даже из колодца. Жена ушла, не выстирав носки. Старуха-мать заботилась о нем. Он начал пить, впоследствии - колоться черт знает чем. Наверное, с тоски, с отчаянья - но дьявол разберет. Я в этом, к сожалению, не сведущ. Есть и другая, кажется, шкала: когда играешь, видишь наперед на восемь тактов - ампулы ж, как светоч, шестнадцать озаряли... Зеркала дворцов культуры, где его состав играл, вбирали хмуро и учтиво черты, экземой траченые. Но потом, перевоспитывать устав его за разложенье колектива, уволили. И, выдавив: "говно!" он, словно затухающее "ля", не сделав из дальнейшего маршрута досужих достояния очес, как строчка, что влезает на поля, вернее - доводя до абсолюта идею увольнения, исчез. ___ Второго января, в глухую ночь, мой теплоход отшвартовался в Сочи. Хотелось пить. Я двинул наугад по переулкам, уходившим прочь от порта к центру, и в разгаре ночи набрел на ресторацию "Каскад". Шел Новый Год. Поддельная хвоя свисала с пальм. Вдоль столиков кружился грузинский сброд, поющий "Тбилисо". Везде есть жизнь, и тут была своя. Услышав соло, я насторожился и поднял над бутылками лицо. "Каскад" был полон. Чудом отыскав проход к эстраде, в хаосе из лязга и запахов я сгорбленной спине сказал: "Альберт" и тронул за рукав; и страшная, чудовищная маска оборотилась медленно ко мне. Сплошные струпья. Высохшие и набрякшие. Лишь слипшиеся пряди, нетронутые струпьями, и взгляд принадлежали школьнику, в мои, как я в его, косившему тетради уже двенадцать лет тому назад. "Как ты здесь оказался в несезон?" Сухая кожа, сморщенная в виде коры. Зрачки - как белки из дупла. "А сам ты как?" "Я, видишь ли, Язон. Язон, застрявший на зиму в Колхиде. Моя экзема требует тепла..." Потом мы вышли. Редкие огни, небес предотвращавшие с бульваром слияние. Квартальный - осетин. И даже здесь держащийся в тени мой провожатый, человек с футляром. "Ты здесь один?" "Да, думаю, один". Язон? Навряд ли. Иов, небеса ни в чем не упрекающий, а просто сливающийся с ночью на живот и смерть... Береговая полоса, и острый запах водорослей с Оста, незримой пальмы шорохи - и вот все вдруг качнулось. И тогда во тьме на миг блеснуло что-то на причале. И звук поплыл, вплетаясь в тишину, вдогонку удалявшейся корме. И я услышал, полную печали, "Высокую-высокую луну". 1966-1969
Пейзаж с наводнением Не слишком известный пейзаж, улучшенный наводнением. Видны только кроны деревьев, шпили и купола. Хочется что-то сказать, захлебываясь, с волнением, но из множества слов уцелело одно "была". Так отражаются к старости в зеркале бровь и лысина, но никакого лица, не говоря - муде. Повсюду сплошное размытое устно-письменно, сверху - рваное облако и ты стоишь в воде. Скорей всего, место действия - где-то в сырой Голландии, еще до внедренья плотины, кружев, имен де Фриз или ван Дайк. Либо - в Азии, в тропиках, где заладили дожди, разрыхляя почву; но ты не рис. Ясно, что долго накапливалось - в день или в год по капле, чьи пресные качества грезят о новых соленых га. И впору поднять перископом ребенка на плечи, чтоб разглядеть, как дымят вдали корабли врага. 1993
В.Козлов. Непереводимые годы Бродского
23.05.2006 г.Подборка материалов, посвященных Иосифу Бродскому, сложилась следующим образом. Первой в редакцию поступила статья Владимира Козлова, по которой в том первоначальном ее варианте возникло немало вопросов. Но она заинтересовала, поскольку в ней была заявлена попытка разобраться в обстоятельствах вхождения Бродского в англоязычный мир. Как будто бы на эту тему написано немало. Значение английской поэзии для творческого становления Бродского и англоязычной культуры для него самого — факты хорошо известные и постоянно упоминаемые. Однако так ли хорошо мы представляем, какой для Бродского была и с какими последствиями для его поэзии в первый момент происходила встреча с англоязычной культурой на ее поле? Впечатление было сильным, благодатным, но отнюдь не легко воспринятым. Проблемы были объективными, языковой барьер труднопреодолимым. Об этом и писал В. Козлов.
Мы решили дополнить полученную нами статью не столько «другой точкой зрения», сколько мнением с другой стороны — с английской: каким оттуда видится Иосиф Бродский, русский поэт, и Joseph Brodsky, гражданин США, претендующий (или это только миф?) на то, чтобы считаться американским поэтом и эссеистом? Мы предложили включиться в разговор оксфордскому профессору, едва ли не лучшему специалисту по современной русской поэзии на Западе, Джералду Смиту. Он отказался, сказав, что самый осведомленный знаток того, как происходило восприятие Бродского в англоязычном мире, живет в России, и порекомендовал нам обратиться к молодому исследователю из Нижнего Новгорода Арине Волгиной, что мы и сделали. Ее статья представляет собой хронологически последовательную реконструкцию того, какие мнения вызывали книги Бродского, публикуемые на Западе, в периодической печати, как эти мнения менялись и как они поляризовались.
Таким образом, картина обрела объем: то, как англоязычный мир был освоен Бродским, дополнилось тем, как сам он воспринимался этим миром. Но за пределами темы все равно остался один, в конечном итоге самый важный аспект — что это культурное усилие принесло русской поэзии? Здесь также возможны разные оценки. Они не раз и высказывались. Кто-то корил Бродского за чужеродную английскость, видя в ней подражательность. Кто-то полагал, что английский путь оказался для Бродского не уводящим от самого себя, а возвращающим к себе и открывающим ранее не использованные возможности русского стиха.
Сошлюсь на собственное первое впечатление, о котором я писал в статье, некогда одной из первых приветствовавших поэтическое возвращение Бродского в Россию: “... помню собственную первую реакцию — лет пятнадцать тому назад (т.е. в середине 1970-х годов. — И. Ш.). Это были ранние стихи, воспринятые мною через эффект обманутого ожидания: они показались мне ниже тех эпитетов, которыми уже тогда считалось правилом хорошего тона сопровождать имя Бродского.
Как я сейчас понимаю, я не услышал поэта не только потому, что это был еще не тот Бродский: не слышишь того, что не хочешь слышать. И этого нежелания не победило во мне даже замеченное сходство вкуса — любовь к одним и тем же англоязычным поэтам: Донну, Элиоту, тогда еще мало или плохо у нас переведенным. Через эти имена скорее возникло ревнивое чувство к автору, пытающемуся найти себя за счет чего-то неизвестного, необычного для культуры русского стиха. За счет необычного — это все-таки не за собственный счет, и прежнее предубеждение лишь усилилось” (“Предисловие к знакомству”, “Литературное обозрение”, 1988, № 9).
Чтобы понять значение того, что сделал для своей собственной и для русской поэзии в целом Иосиф Бродский, обратившись к тем явлениям классической и современной английской поэзии, которые до него были мало известны и вовсе поэтически не востребованы, нужно было вернуть его самого в русский поэтический контекст. Увлечение английской “метафизикой” заставило Бродского создать ранее не существовавший поэтический стиль на своем родном языке (об этом, впрочем, на страницах “Вопросов литературы” мне уже приходилось говорить подробнее — “Уравнение с двумя неизвестными: Поэты-метафизики Джон Донн и Иосиф Бродский”, 1998, № 6).
Третья статья в настоящей подборке посвящена тому, как английский опыт помогал Бродскому прокладывать путь в мир европейской классики. Это сделано на примере жанра “на смерть поэта”, который со времен античности был для поэта поводом сказать о смысле и культурном достоинстве своего дела.
Игорь Шайтанов
Владимир КОЗЛОВ
НЕПЕРЕВОДИМЫЕ ГОДЫ БРОДСКОГО
Две страны и два языка в поэзии и прозе И.Бродского 1972—1977 годов
Одно из первых впечатлений от поэзии Бродского — ощущение несоответствия между его поэтической и прозаической мыслью. Поэт не раз утверждал, что поэзия есть творение самого языка и человек на такое творение не способен (“Язык — начало начал. Если Бог для меня и существует, то это именно язык”1 ). Бродский убежден: то, что “сказывается” в поэтическом произведении, больше того, о чем в нем “говорится”. Именно поэтому для него поэзия — это сфера, в которой что-то сказывается, а проза — в которой что-то (и кем-то) говорится.
Вероятно, этим родовым различием можно объяснить тот факт, что в поэзии Бродского сказывается не только больше, чем говорится в его эссе и интервью на те же темы, но сказывается иной раз почти противоположное.
Одно из возможных объяснений подобных противоречий — в крайней жизненной субъективности Бродского. Лучше всего эта субъективность видна на примере ответов на вопрос: “Как вам у нас в Америке?” Он мог быть политкорректным, мог дать понять, что все не так просто, а мог вдруг сказать: “Честно говоря…” и т. д. Образ Америки, возникающий в поэзии Бродского (кроме стихотворения Михаилу Барышникову “Классический балет есть замок красоты…”2, 1976), порой не соответствует тому, который формирует его проза. Такая ситуация в особенности характерна для одной из самых личных тем поэзии Бродского — темы переживания им (а не последующего истолкования) своего изгнания.
Соотношение России и Америки, двух языков, стиха и прозы — это линия, развивая которую Бродский пришел к идее о диктате языка3 . Язык говорит посредством писателя, оберегает каждого человека и народ в целом и обрекает их на те события и конфликты, к которым сам Язык, подобно Божеству, приобщает своих носителей. Эта концепция Языка с большой буквы4 выросла из конфликта в одном человеке двух языков, двух цивилизаций, одна из которых была прошлым, другая — настоящим и будущим. Для того чтобы конфликт был разрешен, Язык должен был стать Абсолютом — тем, что над человеком и диктует ему. Национальная принадлежность — характеристика лишь второго порядка. У Бродского так все и получилось: к концу 70-х годов он считал уже двуязычие нормой и охотно объяснял, что значит хорошо писать, без разницы, на каком языке. “Единственная заслуга писателя — понять те закономерности, которые находятся в языке” (1978; Захаров, c. 54).
Лирический герой Бродского несколько лет шел к точке зрения Языка, к видению из “ниоткуда”5 . Поиск этой ценностной позиции позже сделал оппозиции “вещи” и “пустоты”6 , “бытия” и “ничто”7 основными в творчестве поэта.
При сравнении того, что сказывается стихом и говорится прозой, звучит по-русски и по-английски, обнажается логика, создающая конфликт в поэзии Бродского 70-х годов. Конфликт, который в то же время преодолевается самим фактом написания стихотворений на русском языке.
В творчестве Бродского нельзя терять из виду событийной логики тех лет, которые сделали из него поэта и мыслителя. Иначе может показаться, что он родился уже вместе со своим собранием сочинений, с узнаваемым набором идей о языке, о его диктате, о пустоте, о скромном месте писателя, стоицизме и полагании превосходства эстетики над этикой. Если воспользоваться поэтической терминологией поэта, все эти концепции являются бесчеловечными “частями речи”, которые не сохранили воспоминаний о том, из чего, почему и как они появились.
Данные заметки посвящены первым пяти годам эмиграции Бродского — с 1972 по 1977 год. В 1972 году у Бродского появился достаточный повод для того, чтобы по-новому соотносить английский язык с русским, а пейзажи Родины — с американским ландшафтом. К окончанию этого периода Бродский был уже активно публикующимся англоязычным эссеистом8 . Иными словами — с 1972 года по 1977-й соотношение языков и стран устанавливалось в сознании поэта заново.
И хотя сам Бродский на многочисленные вопросы о его внутреннем развитии лишь варьировал ответ: “Эволюция незначительна” (Захаров, c. 374), совершенно очевидно, что эта эволюция имела место. С 1977—1978 годов у поэта начались серьезные трудности со здоровьем9 — две подряд операции на сердце. Этого уже достаточно, чтобы стихи “после” отличать от стихов “до”. Хотя бы потому, что “благодарность”, которая “раздается” в стихотворении “Я входил вместо дикого зверя в клетку…” (1980), своим пафосом весьма отличается от “гортань… того… благодарит судьбу” в “Двадцати сонетах Марии Стюарт” (1974). В 1977 году Бродский пишет по-английски и свое первое стихотворение, и несколько эссе. Английский после этого на какое-то время даже выдвигается на первое место: в 1979 году Бродским, если верить собранию сочинений, не написано ни одного стихотворения, но цветет англоязычная эссеистика.
Первые результаты перемены места: “совершенный никто”
“Я приехал в Америку и буду здесь жить <...> Я увидел новую землю, но не новое небо. Разумеется, будущее внушает большие опасения, чем когда бы то ни было. Ибо если прежде я не мог писать, это объяснялось обстоятельствами скорее внутренними, чем внешними <...> Это скверное время, когда кажется, что все, что ты мог сделать, сделано, что больше нечего сказать, что ты исчерпал себя, что хорошо знаешь цену своим приемам <...> В результате наступает некоторый паралич.
От сомнений такого рода я не буду избавлен и в будущем, я это знаю. И более или менее к этому готов <...> Но я предвижу и другие поводы для паралича: наличие иной языковой среды” (VII, 70—71) — эти слова как раз написаны Бродским в период молчания, того “паралича”, о котором здесь упомянуто. Они же — едва ли не единственное его доказательство, хотя если отсмотреть даты в третьем томе собрания сочинений поэта, возникает ощущение провала между мартом 1972 года, когда было написано “Сретенье”, и декабрем, когда стихотворением “1972 год” был открыт, по сути, новый этап творчества. Этот отрывок из письма в нью-йоркскую газету дает представление о том, чем — какими мыслями — был наполнен первый в творчестве Бродского период молчания. При этом определенный эффект имеет сама газетная сиюминутность, в контекст которой это высказывание было помещено, — газета ведь представляет информационную картину очередного дня, не более. Однако именно этот — газетный — материал, который вышел в воскресном приложении 1 октября 1972 года, стал первым (из точно определенных во времени) высказыванием Бродского о жизни на новой земле. И основной его (анти)тезис: “некоторый паралич” в “иной языковой среде”.
Косвенным подтверждением этого состояния может выступить свидетельство Кейса Верхейла, датированное сентябрем 1972 года: “В последний раз я слышал его голос, когда он был в Вене. Он не мог взять в толк, что же с ним произошло, — один раз принялся горячо рассказывать мне о первом знакомстве с Западом и о том внимании, которым он, поэт, в России сумевший опубликовать лишь несколько строк из написанного, вдруг оказался окружен; в остальном же был мрачен и полон тихого бешенства. На открытке с фотографией Tower Bridge, которую он послал мне из Лондона незадолго до отъезда в Америку, были, в частности, такие слова: “Если всерьез — я мертв, если невсерьез: мне дали место poet in residence в Ann Arbor`e””10 .
Совершенно очевидно, что новые обстоятельства требовали нового языка. “Я мертв” — в тот момент Бродский вряд ли мог говорить об этом состоянии подробнее. Не только потому, что не мог себе позволить об этом говорить как человек жестких этических взглядов — скорее было неясно, на каком языке описывать новый мир. Потому фиксация этого мира началась прежде всего с описания текущего состояния самого героя. И описание это пронизывает мотив старения, вызывающий у лирического героя и смех и слезы.
Таково стихотворение “1972 год”, написанное 18 декабря, через полгода после отъезда из СССР. Показательно, что поэзия — в данном случае на ту же тему, что и приведенный выше отрывок, — обозначает новую для поэта ситуацию, стремясь не к обобщениям, но к конкретным наблюдениям и передаче непосредственных переживаний. “Здравствуй, младое и незнакомое / племя!” Приветствие незнакомым людям — первый мотив, осмысляющий новую ситуацию. Следом появляется “жужжащее, как насекомое, / время”, — это реакция на изменение языка, на котором говорит окружающий мир: новое время перестало говорить, а стало жужжать.
Главное, что появляется здесь, — употребление прошедшего времени по отношению к собственным характеристикам и самому существованию: “все, что я мог потерять, утрачено…”, “я был как все” (курсив здесь и далее мой. — В. К.). В качестве причины этого “был” лирическим героем называется “старение”. Но прямо проговаривается и возможная причина самого старения — “чаши лишившись в пиру Отечества, / нынче стою в незнакомой местности”. Иными словами, причина старе-
ния — в настоящем. А вокруг все ново и незнакомо. Лирический герой чувствует себя слишком старым для того, чтобы принимать всю эту новизну. В интервью (осень—зима 1972 года) Бродский косвенно дает собеседнику понять, что оценка его приезда на свободную землю может быть не столь однозначной.“— А вы не думаете, что ваша репутация и известность помогли вам приехать на Запад?
— Конечно, это сыграло свою роль <...> но на самом деле этот вопрос можно было бы видоизменить: а хорошо ли, что я уехал на Запад? Если да, то слово “помогли” справедливо. Если нет, то нам придется сформулировать эту мысль совершенно по-иному” (Захаров, c. 12). “По-иному” сформулировать можно было бы так: репутация на Западе стала одной из причин изгнания Бродского из страны, хотя он и так был там “объектом для всевозможного рода давления, сжатия и отторжения” (Захаров, c. 8). В качестве главной причины, которая запускает механизм давления, Бродский видит независимость человека.
И вот этот независимый человек оказывается на американской земле. В том же 1972 году написано стихотворение, в котором лирический герой попытался взглянуть на настоящее как на давно прошедшее время. Сам Бродский рассказывал, что стихотворение “В озерном краю” (1972) было написано после первого посещения зубного врача в местечке Анн Арбор. Однако от сиюминутной боли в стихотворении не остается ни следа, настоящее оборачивается “теми временами” (когда у него болели зубы): “Все то, что я писал в те времена, / сводилось неизбежно к многоточью”, “И ежели я ночью / отыскивал звезду на потолке, / она, согласно правилам сгоранья, / сбегала на подушку по щеке / быстрей, чем я загадывал желанье”. Из этой метафоры вполне вычитывается логика настоящего: те немногие моменты настоящего, которые схвачены, выделены в восприятии из общей картины, проносятся мимо гораздо быстрее, чем могут быть осознаны.
Вторая половина 1973 года, журналист Анн-Мари Брамм задает Бродскому вопрос:
“— Вы чувствуете, что темп жизни в Америке очень быстрый?
— Да, более-менее. Конечно, степень участия в этой жизни зависит от вас самих. Можете участвовать, можете отказаться. В этом отношении Америка — лучшее место в мире, потому что можно выбрать свой путь” (Захаров, c. 42). Однако в стихотворении “1972 год” мелькает словечко “изгнание”, которое показывает: установка на то, чтобы “вести себя так, как будто ничего не произошло”11 , с которой Бродский прибыл на Запад, не спасает от того, что на самом деле произошло. А случилось, выходит, “изгнание” человека в “лучшее место в мире”. Силы давления, которые ощущал на себе Бродский на родине, вдруг перестали действовать. После того как давление исчезло, Бродский оказался в ситуации недостатка внешних сил, по отношению к которым он мог бы определять себя: “В общем, предыдущая жизнь, жизнь дома, кажется мне сейчас более комфортабельной в психическом смысле, нежели предстоящая. Большинство обстоятельств, с которыми приходилось бороться, были физическими, материальными. Физическому давлению, сколь бы высокий характер оно ни носило, сопротивляться все-таки легче” (VII, 71). С другой стороны, вспомнив приведенный телефонный разговор Бродского с Кейсом Верхейлом, можно понять, что за пределами СССР у поэта возникло ощущение несоответствия тому повышенному внешнему вниманию, которым он оказался окружен. Отсюда опасения, сформулированные уже позже — в интервью 1987 года: “Я полагаю, что страх, высказанный в 1972 году, отражал опасение потерять свое “я” и самоуважение писателя. Думаю, что я действительно не был уверен — да и не очень уверен сегодня, — что не превращусь в дурачка, потому что жизнь здесь требует от меня гораздо меньше усилий, это не столь изощренное каждодневное испытание, как в России” (Захаров, c. 263). В 1973 году появилась формула для выражения человека в новом пространстве — “совершенный никто / потерявший память, отчизну, сына” (“Лагуна”).
В 1977 году и в 1987-м Бродский предлагает две разных логики, следуя которым из человека, помещенного в чужое пространство, выводится “совершенный никто”. 1977 год, эссе “Меньше единицы”: “Видимо, всегда было какое-то “я” внутри той маленькой, а потом несколько большей раковины, вокруг которой “все” происходило <...> Получать плохие отметки, работать на фрезерном станке, подвергаться побоям на допросе, читать лекцию о Каллимахе — по сути, одно и то же. Вот почему испытываешь некоторое изумление, когда вырастешь и оказываешься перед задачами, которые положено решать взрослым. Недовольство ребенка родительской властью и паника взрослого перед ответственностью — вещи одного порядка. Ты не тождествен ни одному из этих персонажей, ни одной из этих социальных единиц; может быть, ты меньше единицы”12 . Если мысль Бродского упростить, получится, что человек меньше социальной единицы по причине собственной врожденной частности. Этот “человек” здесь не возведен в тип, а означает вполне конкретную личность. В 1987 году в лекции “Состояние, которое мы называем изгнанием, или попутного ретро” Бродский говорит не только обо всех изгнанных мира, но и о тех, кто чувствует свое метафорическое (читай — метафизическое) изгнание: “Если бы нам пришлось определить жанр жизни изгнанного писателя — это была бы, несомненно, трагикомедия. Благодаря своему предыдущему воплощению, он способен почувствовать социальные и материальные преимущества демократии гораздо острее, чем ее уроженцы. Однако по той же самой причине (главным сопутствующим результатом которой является языковой барьер) он оказывается совершенно неспособным играть сколько-нибудь значительную роль в этом новом обществе. Демократия, в которую он прибыл, обеспечивает ему физическую безопасность, но делает его социально незначительным” (VI, 28—29). Далее следует определение изгнания как события лингвистического — контакта писателя и языка. И получается, что язык — причина “сползания” писателя “в изоляцию”. А в 1977 году частность — это еще естественное состояние самого человека. Этот пример очень показателен — хрестоматийный Бродский 80-х годов все выводит из Языка. А в том же 1973-м язык в драме лирического героя Бродского не участвует вовсе — и драма не находит выхода, не разрешается, не обретает законных оснований.
“— Переезд в Соединенные Штаты как-то изменил ваше творчество?
— Не думаю. Основного это не меняет, хотя, похоже, я прибыл сюда без своей Музы <...>
— О чем вы теперь пишете? <...>
— Совсем недавно, за последние несколько недель, я написал пару стихотворений о Соединенных Штатах, о своей жизни здесь. Правда, правда! [Смеется.]” (Захаров, c. 28), — говорит Бродский во второй половине 1973 года. Поэт немного преувеличивает: под те характеристики, которые он дал, можно подвести только одно стихотворение — “Лагуна”13 .
После 1972 года, когда в поэзии произошла лишь фиксация перемены места, реакция, которая звучит в “Лагуне”, показывает, каким образом развивается осмысление факта: “Скрестим же с левой, вобравшей когти, / правую лапу, согнувши в локте; / жест получим, похожий на / молот в серпе, — и, как черт Солохе, / храбро покажем его эпохе, / принявшей образ дурного сна”. Понятно, что звучит здесь агрессия по отношению к той системе, которая лирического героя вытолкнула, и при воспоминании об оставленной родине на первое место выходит не память о доме, друзьях, любимой, о родной природе, наконец, — все эти чувства пока не выношены, и их затмевает желание показать обидчику свое презрение, хоть и издалека. Позже (в “Двадцати сонетах Марии Стюарт”, 1974) появляется ощущение, что лирический герой и сам упивается иронией данной ситуации.
Пока “совершенный никто”, продемонстрировав свое отношение к эпохе молота и серпа, смотрит “в то никуда, задержаться в коем / мысли можно, зрачку — нельзя”, поэт Бродский в беседе с журналисткой говорит следующее: “В России, конечно, не всегда было приятно, когда кто-нибудь мог заявиться к тебе домой без приглашения, без предварительной договоренности, просто так. В мою дверь стучали. Я открывал и видел человека, о котором не думал, а он спрашивал: “К тебе можно? А что ты делаешь?” Но это в определенном смысле была жизнь. Это считалось нормальным — полная непредсказуемость. А вот у американцев время большей частью уже расписано. Вы знаете, что произойдет в два часа. Установленный график жизни. В жизни не остается ничего волнующего, неожиданного” (1973; Захаров, c. 43). Кажется, что для того, чтобы сделать такие бытовые наблюдения, нужно было уже какое-то время пожить в новых условиях. Однако в поэзии Бродского этой мысли исполнилось около года и “совершенный никто” — это уже тип человека, знающего, что произойдет в два часа14 .
Вовсе не на темп жизни обратил внимание Бродский после приезда, поскольку попал он первым делом в провинцию штата Мичиган — Анн Арбор. В том же 1972 году появляется стихотворение “Осенний вечер в скромном городке…” — описание быта, в котором звучит вывод о специфике нового пространства: “Здесь утром, видя скисшим молоко, / молочник узнает о вашей смерти. / Здесь можно жить, забыв про календарь, / глотать свой бром, не выходить наружу…” В отечестве нельзя было забыть про календарь — там в любой момент кто-то мог постучать в дверь. Теперь же можно не выходить наружу, потому что там все равно ничего не происходит.
В России лирический герой был отторгнут от происходящего. Так, в 1970 году появилось знаменитое стихотворение “Не выходи из дома…”: “Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером / таким же, каким ты был, тем более — изувеченным?” (II, 410). Угроза со стороны внешнего мира — одна из причин этой отторгнутости. “Гражданин второсортной эпохи, гордо / признаю я товаром второго сорта / свои лучшие мысли, и дням грядущим / я дарю их как опыт борьбы с удушьем. / Я сижу в темноте. И она не хуже / в комнате, чем темнота снаружи” (1971). Почему герой сидит в темноте? Потому что внешний мир ему не интересен, более того — чужд. После 1972 года в поэзии Бродского никакой “борьбы с удушьем” уже не найти. Только в воспоминаниях15 . Новое, бессобытийное пространство ляжет в основу уже другого лирического сюжета, который будет развиваться в творчестве Бродского многие годы, — преображение человека в вещь16 . Темп американской жизни, который действительно обрушится на поэта в Нью-Йорке17 , бессобытийности зачеркнуть уже не сможет18 .
Американская скука питерского разлива: шаг к вещам
В 1974 году появляется стихотворение, во многом предваряющее цикл “Часть речи”, который будет закончен только через два года. Впервые покинутая страна представлена не советской системой, а северной природой, одним из аспектов “другой”, малой Родины. Важен сам факт обращения к теме. Однако стихотворение “Песчаные холмы, поросшие сосной…” примечательно тем, что неожиданно развивает мотивы “Осеннего вечера…” — те же мотивы бессобытийности здесь вдруг обретают более глубокую генеалогию — они возводятся к петербургскому пространству. В результате в поэзии Бродского начинает складываться личный миф о Петербурге.
В “Песчаных холмах…” природа вокруг Санкт-Петербурга — источник всех основных эпитетов: “здесь море треплет на ветру оборки / свои бесцветные…”, “мать-одиночка”, “невод”, который “пуст и перекручен”, “серый цвет” пейзажей, “безлюдные форты”, “блеклый парус одинокой яхты”, “прозрачная лазурь”, “застиранное и безгрешное ложе”19 . Примечательно, что в пейзажах стихотворения город практически неразличим на фоне местной природы — природа здесь растворила в себе человека, не подчинившись ему20 : “И глаз, привыкший к уменьшенью тел / на расстоянии, иной предел / здесь обретает — где вообще о теле / речь не заходит, где утрат не жаль; / затем, что большую предполагает даль / потеря из виду, чем вид потери”. Человек, как и город, не просто уменьшается на расстоянии, но исчезает вовсе.
Мотивы, присущие петербургскому мифу, у Бродского были всегда, однако в данном случае к ним примкнули и те, которые появились в американской провинции в качестве ее характеристик. Возможно, эти характеристики действительно в каком-то смысле “питерские”: мичиганская бессобытийность и балтийская призрачность тождественны в своих следствиях — в конечном исчезновении человека.
Однако в эмиграции и к пространству Бродский подошел по-новому. Долгими описаниями пространства поэт был известен еще до эмиграции21. Но точка зрения лирического героя в таких описаниях принципиально отличалась от той, которая стала входить в поэтический обиход Бродского после 1972 года. До этого момента описываемое пространство включало в себя лирического героя: “Это было плаванье сквозь туман. / Я сидел в пустом корабельном баре…”; “Мы возвращаемся в поля. Ветер / гремит перевернутыми колоколами ведер, / коверкает голые прутья ветел, / бросает землю на валуны” и т. д. У “американского” Бродского резко увеличивается доля стихотворений, в которых дается изображение пространства со стороны, ведется “наблюдение” за его законами22 . Одновременно пространство полностью подчинено видению и закону лирического героя, которого в стихотворении как бы нет. Так начинает формироваться “субъективная онтология” Бродского23 .
Изменение отношения “лирический герой — внешний мир” изменяет связь между “я” и “другими”: “у лирического героя теперь отнимается право на уникальность, исключительность. Исчезают параллели с Христом или пушкинским пророком <...> Отныне роль героя, добровольно идущего на смерть, отвергается, а такой герой иронически именуется “бараном””24 .
Принцип удаленного наблюдения начал осмысляться Бродским сразу после знакомства с английской метафизической поэзией в 1962 году. Последующие два года создавались “Песни счастливой зимы”, среди которых встречаются стихотворения (“В горчичном лесу”, 1963; “Полевая эклога”, 1963), мотивы и приемы которых достигнут полного развития только после 1972 года. С 1964 года в поэзии Бродского появляется четкий адресат “М. Б.”, послания к которой отодвигают “метафизику пространства” на задний план. Однако и послание как один из основных жанров английской метафизической поэзии у Бродского вскоре перешагивает классические рамки, в которых адресат — конкретный человек. Бродский значительно расширил спектр возможных адресатов, включив в него вещи и явления (одни из первых примеров: “К Северному краю”, 1964; “Чаша со змейкой”, 1964). Иными словами, приехав в США, Бродский уже имел опыт общения с вещью. Здесь этот опыт нашел чрезвычайно благодатную почву, поскольку “вещей” за границей оказалось значительно больше. “Я очень ясно помню первые дни в Вене. Я бродил по улицам, разглядывал магазины. В России выставленные в витринах вещи разделены зияющими провалами: одна пара туфель отстоит от другой почти на метр. Когда идешь по улице здесь, поражает теснота, царящая в витринах, изобилие выставленных в них вещей. И меня поразила вовсе не свобода <...> хотя и это тоже, но реальная материя жизни, ее вещность” (октябрь 1981 года; Захаров, с. 165—166). Когда вокруг ничего не происходит, человек остается только в окружении вещей. А вещь реализует идею, содержащуюся в языке. Получается, что компанию человеку составляют слова.
Нужно отметить также, что “вещность” мышления подхлестывает у Бродского развитие оппозиции вещь—пустота. В этом развитии также можно выделить два узловых момента развития: 1972—1973 годы (“Бабочка”, “Лагуна”) — взгляд лирического героя, проникая за вещи, натыкается на Ничто. Позже (например, в “Колыбельной Трескового мыса”) лирический герой находится “нигде”, в пустоте, и, всматриваясь в нее, он начинает различать вещи: “…глаз / вряд ли проникнет туда, и сам / закрывается, чтобы увидеть вещи”.
Волапюк как форма жизни: постановка трагедии
Тогда же — в 1974 году — написаны “Барбизон Террас” и “Над восточной рекой”. “Барбизон террас”: “Небольшая дешевая гостиница в Вашингтоне”, “…кровь в висках / стучит, как не принятое никем / и вернувшееся восвояси морзе” (III, 62). Мотив вернувшегося назад человеческого импульса, неуслышанного слова, неразделенной эмоции появляется в таком виде в поэзии Бродского впервые 25 . Далее: “…амальгама зеркала в ванной прячет / сильно сдобренный кириллицей волапюк / и совершенно секретную мысль о смерти”.
Волапюком называется слово искусственного языка, не соответствующее ничему, что есть в мире; кроме того, под волапюком подразумевают смесь двух языков. Понятно, что у Бродского волапюк, отразившийся в зеркале, — это отраженный в зеркале человек, в котором смешались два языка. Он сравнивается с “сильно сдобренным кириллицей волапюком” потому, что смотрится в зеркало “дешевой гостиницы в Вашингтоне”, а не у себя дома на улице Пестеля. Того, о чем говорится на языке кириллицы, в Вашингтоне не найти. Потому очевидно — то есть “совершенно секретно” — появляется “мысль о смерти”.
Этот мотив будет развит уже в “Темзе в Челси”, датированной тем же годом: “…номера телефонов прежней / и текущей жизни, слившись, дают цифирь / астрономической масти. И палец, вращая диск / зимней луны, обретает бесцветный писк / “занято”; и этот звук во много / раз неизбежней, чем голос Бога”. Смесь двух жизней и есть волапюк. “Занято” всегда, когда человек пытается дополнить прошлое настоящим, — и наоборот. “Занято”, когда человек пытается позвонить по “промежуточному” номеру, собранному из цифр прошлой и настоящей жизни. По этому номеру никуда не дозвониться. Так и слово, собранное из двух языков, ничего не может обозначать. А если человек уподобляется этому слову, значит, он выпал из прошлого, но не стал частью настоящего. “Вся история заключается в том, что, живя в Нью-Йорке, находишься в половинчатом положении. С одной стороны, телефон звонит и все вроде бы продолжается. А с другой стороны, ничего не продолжается. Такая вот фиктивная ситуация. Было бы лучше вообще не слышать родного языка. Или наоборот — слышать его гораздо чаще”26 .
Распутывая образ волапюка, невольно учитываешь, во что он потом вылился в поэзии Бродского27 . Тогда же образ звучал абракадаброй, Бродский не мог этого не чувствовать. Но дело в том, как кажется, что именно так он себя и ощущал: сумбур после смены пространства — как при кессонной болезни, когда ощущается, вычленима только “головная боль” (ср. “Над восточной рекой”, 1974).
Следующий год стал переломным в осмыслении нового и старого, Америки и России, английского и русского языков. В 1975-м Бродский уже не мог бы заявить, что он “прибыл сюда без своей Музы”, под которой он будет понимать “диктат языка”28 . Не мог бы, потому что он совершил открытие в “Колыбельной Трескового мыса”: “Я заснул. Когда я открыл глаза, / север был там, где у пчелки жало. / Я увидел новые небеса / и такую же землю. Она лежала, / как это делает отродясь / плоская вещь: пылясь”, “И здесь перо / рвется поведать про / сходство. Ибо у вас в руках / то же перо, что и прежде”29 . Бродским выговорен наконец новый объект, который заменил ему внешний мир в метафизическом противостоянии, — язык и процесс творения со всей его атрибутикой: стол, бумага, перо и т. д. Если бы этого не произошло, Бродский не мог бы позднее сказать: “Никогда у меня не было о себе такого явственного представления, какое возникло, когда я попал в Штаты и оказался в полной изоляции” (1979; Захаров, с. 93)30 . “Может быть, тут нашло выход понимание, что зло вездесуще, тогда как, живя в России, я думал, что это местная достопримечательность” (1987; Захаров, с. 264).
Когда в 1975 году мотивы изгнания зазвучали в поэзии Бродского в новом масштабе (“Колыбельная Трескового мыса”, “Часть речи”), оказалось, что они уже органично вписываются в картину мира лирического героя. На них уже держится мироздание. Например: “Я пишу из Империи, чьи края / опускаются под воду. Снявши пробу с / двух океанов и континентов, я / чувствую то же почти, что глобус. / То есть дальше некуда. Дальше ряд / звезд. И они горят”, — вот это “дальше некуда”, выросшее из оброненного в 1972 году “все, что я мог потерять, утрачено”, теперь организует пространство, в котором находится лирический герой, оборачиваясь географическим тупиком. “Местность, где я нахожусь, есть рай, / ибо рай — это место бессилья. Ибо / это одна из таких планет, / где перспективы нет”31 — показательно здесь именно то, что лирический герой впервые говорит о том, где он находится и что это за место.
Это было не первое подобное обыгрывание Бродским идеи Рая. Именно этим пассажем поэт в 1973 году подводил американского читателя к явлению Андрея Платонова: “Идея Рая есть логический конец человеческой мысли в том отношении, что дальше она, мысль, не идет; ибо за Раем больше ничего нет, ничего не происходит. И поэтому можно сказать, что Рай — тупик; это последнее виядение пространства, конец вещи, вершина горы, пик, с которого шагнуть некуда, только в Хронос — в связи с чем и вводится понятие вечной жизни. То же относится и к Аду” (“Послесловие к “Котловану” А. Платонова”, VII, 72). Показательно, что только через два года ситуация пребывания в тупике — в Раю, который тождественен
Аду, — приписывается наконец себе (лирическому субъекту).Предыдущие несколько лет он предпочитал описывать Роттердам, Темзу в Челси, пребывающие в настоящем и явившиеся из прошлого пейзажи, выступать в роли Одиссея, в роли человека, у которого есть “римский друг” по имени Постум/Фортунатус, в роли Державина-одописца, при этом лишь иногда обозначая свое присутствие при описываемом объекте32 . Лирического героя нужно было угадывать в сложных образах, вычитывать его характеристики из описаний пространства. Теперь же лирический герой начинает говорить о себе, снова появляется простейшая форма присутствия — местоимение “я”. Вписывая себя в окружающий мир, лирический герой неосознанно определяет себя по отношению к нему.
Однако, определяя себя, Бродский изменяет прежде всего мир — об этом говорит указание на “конечность” земного мира в “Колыбельной…” и “Части речи”. В начале своего поэтического пути Бродский заверял в стихотворении, ставшем знаменитым: “…Мир останется лживым, / мир останется вечным, / может быть, постижимым, / но все-таки бесконечным” (1958). “Конечность” как характеристика внешнего мира есть одно из приобретений Бродского в эмиграции. Скорее всего, эту черту мира подсказало ощущение конечности своего внутреннего развития33 . В дальнейшем поэт скажет, что эта ситуация, в которой “конечность” должна была осознаваться особенно остро, была смоделирована им самим.
Склонность строить свою жизнь под знаком определенных концепций у Бродского крайне велика. В этом дают убедиться, например, высказывания о моменте отъезда из России. “Конечно, можно было еще попытаться… остаться в Европе, в Англии, во Франции или, лучше всего, в Италии. Где все-таки существовало какое-то ощущение продолжения… Но я понял, что продолжения быть не может, что если уж терять, то до конца. Все потерять и от всего отказаться” (1988; Захаров, с. 381) — так было принято решение лететь в Америку. Выбор этой страны для Бродского означал полный разрыв с предыдущей жизнью. Это очень показательная черта характера — добровольный выбор худшего варианта, который может объясняться внутренним желанием чистого эксперимента изгнания. А еще позже в одной из своих самых откровенных бесед — с Евгением Рейном — Бродский объяснит свое стремление в США появившимися еще в СССР особенностями своей ментальности: “Я, например, совершенно не мог бы жить в Москве (я пытался!). При всех ее сквозняках, при всем ее разнообразии, при всех невероятных слоях истории, при всех этих парадоксах — прежде всего это место клаустрофобическое. Потому что — в глубине континента, там хоть три года скачи — ни до какого моря не доскачешь. И вот это для меня очень важно — край земли. По той же самой причине я не смог жить в Мичигане…” (Захаров, с. 421)34 . Известно, что Бродский сравнивал Петербург с Великобританией — город и страна находятся на краю в первом случае страны, во втором — Европы. Отсюда — отстраненный взгляд на вещи. Однако в Англии, как известно, Бродский жить не остался — этот факт доказывает, что теория географической (и метафизической) “конечности” мира возникла как результат осмысления едва ли не случайного стечения обстоятельств, вследствие которых Бродский оказался именно в Америке. После того как поэтом было сделано открытие о невеликой разнице между ролями человека в различных пространствах, должен был возникнуть личный миф о том, что все открытия, сделанные в США, он на самом деле привез из России.
“Часть речи”: преодоление двуязычия
Если проштудировать интервью Бродского, окажется, что утверждений, указывающих на упорядоченность и бессобытийность американского пространства, у него было не так уж мало. Однако во всем творчестве Бродского трудно найти цитаты, в которых бы восприятие новых мест как чужих проецировалось бы и на отношение к английскому языку. Слова о том, что “двуязычие — это норма”, а затем о том, что сам поэт “без ума от английского языка”, появились в речах Бродского с 1979 года. С лета 1977 года поэт начал писать эссе по-английски. Причем как-то вдруг — за полгода написал сразу четыре, в общей сложности около ста страниц. Но в библиографии Бродского нет ни одного интервью, датированного 1977 годом. В 1978 году не было ни новых эссе, ни упоминания о новом увлечении, потому только в 1979-м35 , взявшись вновь за английское перо, Бродский, что называется, “впустил” в себя английский язык в качестве своего36 . А в “Части речи” (1975—1976) английский язык еще настолько же чужд, как и сама “чужая земля”.
Бродский в 1975—1976 годах совершает мировоззренческий переход, сокращая мир своего лирического героя до комнаты, в которой пишутся стихи. В России объектом “устремлений” его лирического героя был весь мир, который, правда, был опасен для человека. Теперь же этот мир будет существовать лишь постольку, поскольку он пояходя, “ради мелкого чуда”, осваивается языком. Теперь ключевым для понимания мироздания будет творящееся — в обоих смыслах слова — в комнате поэта: “…я пишу эти строки, стремясь рукой, / их выводящей почти вслепую, / на секунду опередить “на кой?”, / с оных готовое губ в любую / минуту слететь и поплыть сквозь ночь, / увеличиваясь и проч.”, “Человек превращается в шорох пера по бумаге, в кольца / петли, клинышки букв и, потому что скользко, / в запятые и точки. Только подумать, сколько / раз, обнаружив “м” в заурядном слове, / перо спотыкалось и выводило брови!” (1976).
Здесь же можно целиком привести двенадцатое стихотворение цикла “Часть речи”:
Тихотворение мое, мое немое,
однако, тяглое — на страх поводьям,
куда пожалуемся на ярмо и
кому поведаем, как жизнь проводим?
Как поздно за полночь ища глазунию
луны за шторами зажженной спичкою,
вручную стряхиваешь пыль безумия
с осколков желтого оскала в писчую.
Как эту борзопись, что гуще патоки,
там ни размазывай, но с кем в колене и
в локте хотя бы преломить, опять-таки,
ломоть отрезанный, тихотворение?
Именно это место — место, в котором пишутся стихи, — с 1975 года начинает обозначать точку зрения “ниоткуда”, на которую становится лирический герой37 , отбрасывая время и пространство окружающего мира. Однако обретение этой точки происходит на пике человеческой трагедии лирического героя. Через десять лет в освещении той же темы практически не останется того непосредственного переживания, которое есть в “Тихотворении…”38 .
Особенная роль цикла “Часть речи” состоит в том, что он вместил в себя весь переход с ценностной позиции человека, который оставил все самое дорогое “за морями, которым конца и края”, к “безумию”, до которого способна довести эта слишком человеческая трагедия, и затем — к качественно новому уровню трагедии, когда, сведя себя к языку, человек обнаружил, что все человеческое, чем он жил и что переживал, язык — “часть речи” — вместить не может. Позже из этой формулы вырастет концепция человека, который не может быть понятым, который обречен на неразделенную частность: “Я полагаю, что каждый человек — самостоятельная сущность, прикоснуться к этой сущности и постичь ее можно лишь поверхностно” (Захаров, с. 447).
Лирический герой находит выход из человеческой трагедии в нечеловеческом взгляде на происходящее — нечеловеческом потому, что он пытается стать на точку зрения “звезд”, “воздуха”, предметов, то есть явлений внешнего материального мира39 . Внешний мир для него характеризуется прежде всего “неизменяемостью и постоянством”40 . Человек может войти в этот мир только с помощью языка, который в данном случае мыслится материально — как черные буквы на белом листе41 . Однако с точки зрения окружающего мира получается, что человек сводится к тем словам, которые он после себя оставляет. В цикле прямо звучит заявление о том, что весь человек никогда не равен тому, что от него остается, и этого разрыва между самим человеком и оставленным им следом42 преодолеть не дано. Эта мысль усилена в предпоследнем стихотворении цикла троекратным повтором: “От всего человека вам остается часть / речи. Часть речи вообще. Часть речи”43 .
В ситуации полнейшей безадресности и одиночества лирического героя язык сначала становится даже не чем-то важным для него, а единственным, кто дает лирическому герою иллюзию выхода из личной трагедии. Из неодушевленной “борзописи” получается одушевленное “тихотворение”. В конце концов язык становится системой координат, исходя из которой рассматривается внешний мир.
Шестое стихотворение цикла заканчивается строчками: “Каждый охотник знает, где сидят фазаны, — /в лужице под лежачим. / За сегодняшним днем стоит неподвижно завтра, / как сказуемое за подлежащим”.
В этих трех строках угадывается неожиданный сюжет. Первая строка представляет собой несколько измененную известную детскую поговорку-упражнение. Полностью она звучит так: “Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны”. Как известно, фраза зашифровывает в первых буквах последовательность цветов в радуге от красного до фиолетового. Бродский изменяет последовательность, выбрасывая слово “желает”. Это изменение в контексте цикла становится достаточно красноречивым. Лирический герой сравнивает чужую землю, в которой он находится, с концом “вселенной”. “...Дальше нет страницы податься в живой природе”, — говорит он. Затем пространственный ряд перелагается во временной: конец вселенной означает, что уже все увидено, все понято и ничего нового не будет. И значит, лирическому герою нечего “желать”: все желания остались в тех землях, которые он был вынужден покинуть. Свою трагедию лирический герой переживает именно здесь, на границах земного мира, где будущее настолько же определенно, как и твердо стоящее в английском языке сказуемое. И то и другое страшно: “Облокотясь на локоть, / я слушаю шорох лип. / Это хуже, чем грохот / и знаменитый всхлип. / Это лучше, чем детям / сделанное “бо-бо”./ Потому что за этим / не следует ничего” (“Строфы”, 1978).
Иными словами, порядок внешнего мира, в котором находится лирический герой, начинает отождествляться с “порядком” (грамматикой) английского языка. Однако речь здесь идет именно о внешнем по отношению к лирическому герою мире44 .
Совершенно иначе в цикле представлено соотношение действительности и русского языка. Прежде всего потому, что действительность в данном случае ограничивается внутренним миром героя. Внешний мир Америки в русском языке не выражается. Девятнадцатое стихотворение цикла начинается словами: “...и при слове “грядущее” из русского языка / выбегают мыши и всей оравой / отгрызают от лакомого куска / памяти, что твой сыр, дырявой”.
В четверостишии три ключевых слова: “грядущее”, “русский язык” и “память”. Тот образ грядущего, который лирический герой здесь представляет, относится прежде всего к его памяти, которая со временем будет стираться. В данном случае именно русское слово “грядущее” вызывает у лирического героя образ грызунов (об этом сам поэт говорил в одном из своих интервью) и тем самым в каком-то смысле определяет будущее лирического героя. Его память, его внутренний мир неразрывно связаны с русским языком. Поэтому, если память в грядущем будет скудеть, то же самое будет происходить и с русским языком, и с внутренним миром лирического героя. Иначе говоря, здесь русский язык является языком внутреннего мира. Тогда как сам внутренний мир определяется пространством памяти, из которой черпаются все реалии покинутой родины.
В стихотворении Бродского “Шорох акации” (1975) уже звучал мотив, отнимающий будущее у русского языка: “Вереница бутылок выглядит как Нью-Йорк. / Это одно способно привести вас в восторг. / Единственное, что выдает Восток, / это — клинопись мыслей: любая из них — тупик…”
Напрашивается концепция: особенность русского языка и русского пространства состоит в дискретности, несвязанности отдельных частей. Одна часть русского пространства ничего не говорит о другой45 . Русская мысль, будучи чувственной, вовсе не нуждается в логическом продолжении, не приводит ни к какому логическому выводу. Та же ситуация проецируется и во времени: настоящее не является логическим продолжением прошлого, как и будущее не будет связано с текущим моментом46 .
Английский язык отождествляется в цикле с настоящим временем внешнего мира чужой земли. У этого настоящего есть будущее, которое не принесет неожиданностей: “Больше не во что верить, опричь того, что / покуда есть правый берег у Темзы, есть / левый берег у Темзы. Это благая весть” (1974). Это мир, в котором не будет нового, поэтому “благая весть” так банальна. Русский язык ассоциируется с прошлым, а значит — с внутренним миром лирического героя. “Помни, что прошлому не уложиться / без остатка в памяти, что ему / необходимо будущее” (“Сан-Пьетро”, 1977). Но у русского прошлого нет ни русского будущего, ни русского настоящего. Лучшей иллюстрацией этой мысли является волапюк: “И, глаза закатывая к потолку, / я не слово о номер забыл говорю полку, / а кайсацкое имя язык во рту / шевелит в ночи, как ярлык в Орду”47 , “…и под скатертью стянутым к лесу небом / над силосной башней натертый крылом грача / не отбелишь воздух колючим снегом”. Эти “темные” места нужны Бродскому для того, чтобы показать на практике, в чем состоит его трагедия: его русская (местами древнерусская) лексика здесь не соотносится с грамматикой американского пространства. В дальнейшем Бродский примет логику, которую предлагает человеку с русскоязычным прошлым английский язык. “Хотел бы отметить лишь одну вещь как результат моего пребывания в англоязычном окружении: когда я пишу, я ощущаю большую ясность, более высокую долю рационального по сравнению с тем, если бы я был в России, писал в России <...> В английском есть нечто, что побуждает разъяснять, развивать мысль. И это есть теперь в моих стихах” (1984; Захаров, с. 251).
Еще один пример в стихотворении 1978 года: “Знаешь, когда зима тревожит бор Красноносом, / когда торжество крестьянина под вопросом, / сказуемое, ведомое подлежащим, / уходит в прошедшее время, жертвуя настоящим, / от грамматики новой на сердце пряча / окончания шепота, крика, плача”. “Новая грамматика” нового пространства не имеет окончаний в отличие от флективного русского языка. То, что в языке является окончанием, в мироздании прошлого означало человеческие эмоции и чувства, сопровождающие мысль самого слова. В первом же своем эссе за страницу до окончания Бродский высказал ощущение того, что он проделал напрасный труд: “Печальная истина состоит в том, что слова пасуют перед действительностью. У меня, по крайней мере, такое впечатление, что все пережитое в русском пространстве, даже будучи отображено с фотографической точностью, просто отскакивает от английского языка, не оставляя на его поверхности никакого заметного отпечатка. Конечно, память одной цивилизации не может — и, наверное, не должна — стать памятью другой”48 .
Лирический герой подходил к своему внутреннему миру, говорящему по-русски, с точки зрения мира внешнего, для него чужого. Иначе говоря, мир русского языка он оценивал с точки зрения английского. В результате такого наложения ценностных позиций оставалось то, что не укладывалось в рамки нового мира. Оставался ни много ни мало “весь человек”. “Вычитая из меньшего большее, из человека — Время, / получаешь в остатке слова, выделяющиеся на белом / фоне отчетливей, чем удается телом / это сделать при жизни…” (“В Англии”, 1977). Пока язык был русским или английским, этой трагедии, видимо, было не избежать. А уже в 1980 году прошлое наконец начнет согревать в настоящем: “И дрова, грохотавшие в гулких дворах сырого / города, мерзнущего у моря, / меня согревают еще сегодня” (“Эклога 4-я (зимняя)”).
Главным событием цикла “Часть речи” является слово “свобода”, графически акцентированное в финальном стихотворении:
Свобода —
это когда забываешь отчество у тирана,
а слюна во рту слаще халвы Шираза,
и, хотя твой мозг перекручен, как рог барана,
ничего не каплет из голубого глаза.
Для лирического героя, который как бы зажат между двумя возможностями существования — в точке “ниокуда”, где пишутся стихи, и в мире происходящего, — важна сама возможность выбирать, по каким ценностям ему жить: “Всегда остается возможность выйти из дома на / улицу…” Возможность подразумевает какой-то выбор действия и слова. Именно эту найденную ранее элементарную сиюминутную возможность выбора лирический герой в завершение своей речи называет “свободой”. Свободой оказывается возможность забыть “отчество у тирана”, а несвободой — отсутствие такой возможности. Далее — возможность иметь свой вкус, предпочесть слюну халве, которой в Иране несколько веков назад падишахи поощряли художников, работающих строго в рамках установленной веками традиции полного отказа от “я”.
Примечательно, что свобода у лирического героя не является метафизической категорией, она у него максимально конкретна и сиюминутна, выражена несколькими мелочными ситуациями, которых лирическому герою оказывается достаточно, чтобы говорить о свободе. И тот факт, что эти мелочи называются “свободой”, говорит прежде всего о масштабе несвободы, у которой эти мелочи нужно отвоевывать. Позднее в интервью все будет иначе — свобода окажется абстрактным “ощущением бесконечности”, которое приходит после того, как “все потерял и от всего отказался”: “Так случилось, что в тридцать два года выпала мне монгольская участь <...> То есть я слушаю… но слушаю как бы из седла” (1988; Захаров, с. 381). Если верить словам Бродского, то со дня своего приезда в Америку он чувствовал себя свободным. Однако его произведения говорят, что это чувство пришло лишь в 1976—1977 годах, когда наконец была найдена та онтологическая позиция лирического героя, которая позволяет подняться над различием оставленного и обретенного миров с их языковым различием.
Примечательно также, что до “Части речи” последний раз слово “свобода” встречалось в творчестве Бродского в 1972 году, еще до отъезда. Свобода здесь связана именно с отечеством:
С красавицей налаживая связь,
вдоль стен тюрьмы, где отсидел три года,
лететь в такси, разбрызгивая грязь,
с бутылкой в сетке — вот она, свобода!
Несмотря на то, что стены тюрьмы остались далеко, Бродскому понадобилось почти пять лет, чтобы почувствовать ее снова. Но она уже, правда, не вызывает восторга.
Юрий Лотман в биографии Александра Пушкина отметил особенность, которую свободе придает опыт писания: “В жизни совершенный поступок отсекает все нереализованные альтернативы: совершив одно, нельзя уже одновременно с ним совершить нечто противоположное. Поступок отнимает свободу выбора. В работе над рукописью можно, не зачеркивая одного варианта, разрабатывать другой, можно вернуться к отброшенному и восстановить его на том же листе бумаги. Это придает жизни поэтического воображения большую полноту и свободу, чем реальная жизнь”49 . Возможно, только потому, что опыт писания онтологически подразумевает большую свободу по сравнению с реальной жизнью, у лирического героя “Части речи” “остается возможность” что бы то ни было сделать. Причем — не только “выйти на улицу”, но и вернуться на родину.
В 1976—1977 годах Бродский в каком-то смысле разрешил внутреннюю “языковую” коллизию50 , что актуализировало ощущение свободы. В то же время поэт не разрешил коллизии внешней. Известны споры зарубежных славистов о том, что представляет собой английский Бродский. Одна из наиболее нашумевших статей принадлежит англичанину К. Рэйну и называется “Репутация, подверженная инфляции” (Raine C. A Reputation Subject to Inflation // Financial Times. 1996. 16—17 ноября), автор которой указывает на стремление Бродского к самогероизации в расчете на сентиментального читателя. Ссылался при этом К. Рэйн на стихотворение “Я входил вместо дикого зверя в клетку…” в его английском переводе. В то же время А. Волгина предлагает чрезвычайно убедительное объяснение природы этих споров. В частности, исследователь пишет об упомянутом стихотворении Бродского: “Переводя “Я входил вместо дикого зверя в клетку…” на английский язык, Бродский теряет возможность апеллировать к культурному опыту читателей: наедине с англо-американской читательской аудиторией он — единственный представитель своего народа и своего поколения, пережившего такие испытания <...>
Он выносит в заголовок дату создания стихотворения — день своего рождения: “May 24, 1980” <…> Вероятно, по замыслу Бродского, в переводе должен был сохраниться баланс, достигнутый в оригинальном стихотворении: биографическая основа, скрытая в подтексте, работает на индивидуализацию текста, а метафорика <…> — на обобщение. Но заголовок выводит биографический подтекст на первый план, в результате чего факты конкретной жизни заслоняют образный строй. Читатель настраивается на реализацию метафоры и видит в стихотворении буквальное воссоздание жизненного пути поэта”51 . Волгина показывает, что заголовки Бродского к автопереводам направляют читательское восприятие в иное русло, нежели русские оригиналы. Да и сам Бродский, видимо, был расположен к тому, чтобы предстать в новой языковой среде не как переведенный, но как оригинальный поэт (cр.: А. Волгина об английском издании стихов Бродского: “Учитывая, что сведения о том, переведено ли стихотворение с русского или изначально написано по-английски, помещены на отдельной странице мелким шрифтом среди выходных данных и сведений об издательских правах, а в самом оглавлении не отражены, читатель изначально воспринимает книгу не как серию переводов, а как сборник англоязычной поэзии, созданной поэтом по имени Joseph Brodsky”52). Таким образом, в каком-то смысле можно говорить о том, что англоязычного поэта Brodsky судили иначе, чем потерявшегося в переводе русского эмигранта Бродского.
Совершенно очевидно, что Бродского гораздо охотнее приняли на Западе как бедного родственника, эмигранта из закрытой для мира страны, который нуждался в помощи и опеке. Однако Бродскому уже все равно. На любой вопрос журналиста у него есть ответ. “Наступает какой-то момент, когда, в общем, уже не важно, кто и что о тебе думает, когда твоя деятельность становится просто твоим существованием. И это ты, и если даже ты не прав, это все равно ты, это твоя жизнь, ни на чью не похожая” (1988; Захаров, с. 369). Английский язык здесь уже предстает как личная точка зрения Бродского, право на которую он готов отстаивать53 .
Теперь в Бродском начинает вызревать масштабный сюжет “Урании”, где главными героями окажутся Время и Пространство.
Версия взгляда из пустоты:
“пилот одного снаряда”Однажды Бродский неожиданно признался журналисту: “Я всю жизнь хотел быть пилотом, то есть летчиком. К сожалению, в России мне это не удалось, потому что там бы меня к самолету не подпустили на пушечный выстрел” (Захаров, с. 228). Хочется воскликнуть: “Вот оно что!” Ниже будет изложена гипотеза, которая вполне может стать научной, если кто-то точно знает, летал ли в России поэт на самолете или нет.
Когда я сам впервые полетел на самолете (мне было уже за 20 лет), я неотрывно смотрел в иллюминатор. Поразила такая особенность пейзажа: из него по мере возвышения совершенно исчезало все живое. И чем дальше вверх, тем более неподвижной казалась земля.
Так вот, можно предположить, что если Бродский, улетая из России, сел на самолет впервые54 , то в окне он, сам того пока не зная, увидел свое будущее. А самолет, взлетая, проделал то же самое, что сделает поэт в поисках своей точки зрения “ниоткуда”. По мере приближения к ней его пейзажи будут все более бесчеловечными — неизменяемыми и постоянными. “В воображении легче вызвать архитектуру, чем живые существа” (VI, 43). Человек, который их напишет, переводя взгляд с бумаги на свои руки, поймет, что ему там нет места. Об этом он тоже попытается сказать55 . Например, в “Осеннем крике ястреба” (1975):
...Но упругий слой
воздуха его возвращает в небо,
в бесцветную ледяную гладь.
В желтом зрачке возникает злой
блеск. То есть помесь гнева
с ужасом. Он опять низвергается.
Но как стенка — мяч,
как падение грешника — снова в веру,
его выталкивает назад.
Его, который еще горяч!
В черт те что. Все выше. В ионосферу.
В астрономически объективный ад...
Полностью довериться Языку — значит позволить ему создать мироздание заново. Стихи, написанные на русском в американском мире, постепенно примиряли внутренний мир с внешним. “В первые два-три года я чувствовал, что скорее веду себя, чем живу <...> Теперь лицо и маска, я думаю, склеились” (Захаров, с. 67). Эту точку “ниоткуда” обязательно надо было найти, иначе время и пространство всегда бы напоминали, на каком языке он пишет стихи, а на каком — прозу. Здесь же сам Язык создаст и время и пространство.
Разрешение языкового конфликта в сознании Бродского — это отчасти ответ на вопрос, почему он не вернулся в Россию. Он на всю жизнь останется под впечатлением от той внутренней работы, которую ему пришлось проделать по приезде в Америку. На ответ о перспективах возвращения в Россию он отвечает: “Я думаю, осуществить это просто, осознать это, вероятно, немыслимо” (1988; Захаров, с. 366). “Не могу представить, как бы я там жил. Я не могу эмигрировать еще раз <…> В России похоронено мое сердце, но в те места, где ты пережил любовь, не возвращаются” (1989; Захаров, с. 452).
В то же время необходимость подниматься над противопоставлением английского и русского языков задала внутреннему миру Бродского особую траекторию развития: “Дело в том, что либо просто с моим личным движением физическим, либо просто с движением времени становишься все более и более автономным телом, становишься капсулой, запущенной неизвестно куда. И до определенного времени еще действуют силы тяготения, но когда выходишь за некий предел, возникает иная система тяготения — вовне. И там, как на Байконуре, никого нет. Вы понимаете?” (Захаров, с. 382—383).
г. Ростов-на-Дону
1 См.: Бродский И. Большая книга интервью. М.: Захаров, 2000.
С. 96. В дальнейшем все ссылки на это издание даются в тексте: Захаров с указанием страницы.2 Стихотворение заканчивается строками: “А что насчет того, где выйдет приземлиться, / земля везде тверда; рекомендую США”. Стихотворение имеет четкий адресат — будущего эмигранта, звезду советского балета. Такой игривый тон Бродский брал обычно в традиционных стихотворениях на день рождения кого-то из друзей (Александра Кушнера, Якова Гордина) — жанр этих стихотворений всегда подразумевает некоторую позу, которую должен оценить старый знакомый. В данном случае заключительные строки являются частью выбранной Бродским позы, которая не вяжется ни с чем, что написано в том же 1976 году.
3 Соответствующая программа сложилась еще в российский период творчества Бродского. Так, известно, например, его письмо в редакцию одной из советских газет, направленное против реформы языка. Основной тезис: «Язык — это великая большая дорога, которой незачем сужаться в наши дни» (Полухина В. Бродский глазами современников. СПб.: Звезда, 1997. С. 66). Затем в письме Л. Брежневу, которое, по словам Бродского, было написано в ночь перед отъездом из СССР (с 3 на 4 июня 1972 года), уже содержится исходный тезис американского Бродского: «Язык — явление более старое и более неизбежное, чем государство» (Захаров, c. 441). Далее, в письме в газету «Нью-Йорк Таймс», написанном в 1972 году после приезда в Америку, Бродский практически полностью воспроизводит этот тезис. Здесь тема языка возникает в связи с пассажем о России: «Я не думаю, что кто бы то ни было может прийти в восторг, когда его выкидывают из родного до- ма <...> Но независимо от того, каким образом ты его покидаешь, дом не перестает быть родным <...> Россия — это мой дом, я прожил в нем всю свою жизнь, и всем, что имею за душой, я обязан ей и ее народу. И — главное — ее языку. Язык <...> вещь более древняя и более неизбежная, чем любая государственность» (Сочинения Иосифа Бродского. СПб.: Пушкинский фонд, 1997—2002. Т. VII. С. 63. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте). Однако до «диктата языка» еще далеко. Ср. в большом интервью, написанном в результате полугода бесед журналиста с поэтом (лето 1973 — январь 1974 года): то, что будет потом называться у Бродского «диктатом языка», формулируется пока что очень туманно: «Я не знаю, как это описать <...> В этом занятии нет ничего устойчивого. Иногда у меня написаны две-три строчки да пара идей в голове, и я пытаюсь выразить их. Но во время процесса что-то происходит, и очень часто стихотворение выходит совсем не таким, как было замыслено вначале» (Захаров, c. 40).
4 Язык с большой буквы по сравнению с английским или русским языками, по Бродскому, есть явление другого — высшего — порядка. Он приближается по своей значимости к Абсолюту, который творит все сущее. Законы этого Абсолюта — грамматика, изначально выражающая законы мироздания. Ср. позднейшую мысль, высказанную Бродским в эссе о стихотворениях Томаса Гарди (1994): «…как кто-то (скорее всего, это был я) когда-то сказал, язык — это первый эшелон информации о себе, которую выдает неодушевленное одушевленному» (VI, 316). Человек в этом мироздании неразличим — он сам при этом не микрокосм, а скорее насекомое, в котором не может быть такого содержания, которое требовало бы своего языка. Грамматика Языка — лучшее тому доказательство. И только личный контакт с Языком (подобно личному контакту с Богом) позволяет преодолеть неразрешимые человеческие драмы.
5 Ирина Служевская пишет: “Читая стихи Бродского, написанные после рубежа — 1972 года, понимаешь, что для этого поэта изгнание стало предпосылкой метафизического взлета” (Служевская И. Поздний Бродский: путешествие в кругу идей // Иосиф Бродский и мир. Метафизика, античность, современность. СПб.: Звезда, 2000. С. 9.
6 См.: Лотман Ю. М., Лотман М. Ю. Между вещью и пустотой (Из наблюдений над поэтикой сборника Иосифа Бродского “Урания”) // Лотман Ю. М. Избранные статьи. Т. 3. Таллинн: Александра, 1993.
С. 294—307.7 См.: Венцлова Т. Развитие семантической поэтики // Литературное обозрение. 1996. № 3 (257). С. 29—34.
8 До этого времени у Бродского было несколько прозаических выступлений, написанных по-русски: “Заметка о Соловьеве” (1971), “Писатель — одинокий путешественник…” (Письмо в “Нью-Йорк Таймс”; 1972), “Послесловие к “Котловану” А. Платонова” (1973), “Размышление об исчадии ада” (1973). Помимо “Заметки о Соловьеве”, все эти высказывания были переведены на английский язык Карлом Проффером. Первый опыт эссеистики на английском — эссе “Меньше единицы” (“Less Than One”), датированное 1976 годом. Как будет показано ниже, в 1975—1976 годах внутренний языковой конфликт, характерный для Бродского первых лет эмиграции, начал находить разрешение. Автобиографическое повествование по-английски — один из этапов такого разрешения.
9 В одном из стихотворных посланий Виктору Голышеву 1977 года из Америки Бродский упоминает 13 декабря — день первого инфаркта. Это мог быть как декабрь 1976, так и декабрь 1977 года.
10 Верхейл К. Танец вокруг мира. Встречи с Иосифом Бродским. СПб.: Звезда, 2002. С. 59.
11 Весна—лето 1980: “Когда я приехал сюда, я велел себе не делать истории из этой перемены, вести себя так, как будто ничего не произошло. Так я себя и вел. Думаю, что и продолжаю. Но в первые два-три года я чувствовал, что скорее веду себя, чем живу <...> Теперь лицо и маска, я думаю, склеились” (Захаров, c. 67). Декабрь 1981: “Когда я приехал в Штаты, я сказал себе, что не следует обращать никакого внимания на смену обстановки. Я решил притвориться, что ничего особенного не произошло” (там же, c. 184).
12 Бродский И. Меньше единицы. Избранные эссе. М.: Независимая газета, 1999. С. 19.
13 В этом году начат “Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова”, но окончен он будет только в 80-х годах; помимо него есть “Роттердамский дневник” — место действия Роттердам — и “На смерть друга” — реакция на ложную весть о кончине московского друга Бродского, который якобы замерз в подъезде.
14 Мотиву бессобытийности в это же время сопутствует мотив не-су-ществования лирического героя. Ср. у Андрея Ранчина: “С середины 1970-х гг. в поэзии Бродского утверждается инвариантный мотив не-существования, не-бытия “Я”, облекающийся в слегка варьирующуюся поэтическую формулу. Один из первых примеров — в стихотворении “На смерть друга” (1973)” (Ранчин А. На пиру Мнемозины. Интертексты Иосифа Бродского. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 33)
15 “Колыбельная Трескового мыса” (1975): “…я сменил империю. Этот шаг / продиктован был тем, что несло горелым / с четырех сторон”, “Дуя в полую дудку, что твой факир, / я прошел сквозь строй янычар в зеленом, / чуя яйцами холод их злых секир…”, “Я входил вместо дикого зверя в клетку…” (1980).
16 Вещь для Бродского есть реализация языка. Природу такой иерархии он объясняет в эссе “Меньше единицы”: “Скудость окружала нас, но, не ведая лучшего, мы от нее не страдали. Велосипеды были старые, довоенные, а владелец футбольного мяча почитался буржуем. Наше белье и одежки были скроены матерями из отцовских мундиров и латаных подштанников <...> Самим вещам мы предпочитали идеи вещей” (Бродский И. Меньше единицы. С. 28). После стихотворения “1972 год” этот мотив уже встречается только в 1976 году и далее: “Декабрь во Флоренции”, “Часть речи”, “Помнишь свалку вещей на железном стуле…” (1978), “Строфы” (1978) и т.д.
17 Надавно газета “Известия” к 40-летию суда над Бродским опубликовала отрывки из стихотворных посланий поэта переводчику Виктору Голышеву, которые не вошли в собрание сочинений. Ср. отрывок 1974 года: “Когда бы уложить я мог / Америку в два русских слога, / я просто написал бы: МНОГО. / Всего — людей, автодорог, / стиральных порошков, жилья, / щитов с летящим “Кока-Кола”, / скайскреперов, другого пола, / шмотья, истерики, жулья. / От этого в глазах рябит” (Известия. 2004. 18 февраля).
18 Ср. другой отрывок из посланий Виктору Голышеву, также датированный 1974 годом: “Итак, я здесь два года. Но / все чувствую себя туристом, / натуралистом, журналистом, / и словно бы через окно / разглядываю мир, ногой / ступая по горам и долам… / Здесь главное — как сделать доллар / и как, после него, другой. / Их сделавши, стригут газон / в шесть вечера. Потом рубают. / Затем правительство ругают. / В одиннадцать слетает сон” (там же).
19 Ср. характеристики петербургского “природно-культурного” пространства в классической работе В. Н. Топорова “Петербургский текст русской литературы”: “однообразие местности”, “ровность”, “открытость (простор)”, “незаполненность (пустота)”, “разъятость частей”, “крайнее положение”. “Здесь, пожалуй, стоит <…> отметить значительную степень изоморфности самого города и его природного пространства, когда в описании того и другого используются общие категории <…> что не исключает и противоположных характеристик — теснота, скученность” (Топоров В. Н. Петербургский текст русской литературы. СПб.: Искусство-СПб., 2003. С. 29—30).
Можно предположить, что Бродский почерпнул некоторые отличительные черты петербургского пространства непосредственно из работы Владимира Топорова, которая датирована дважды — 1971, 1993. Нет прямых свидетельств того, что Бродский был знаком с нею, однако он вполне мог знать о задумке и слышать живописные примеры по теме от Вяч. Вс. Иванова, с которым поэт не просто был знаком, но и специально перед отъездом из России приходил проститься. Иванов же часто работал совместно с Топоровым. В пользу этой версии говорят почти точные цитации Бродским Топорова в эссе о Петербурге “Путеводитель по переименованному городу” (1979): “Мужское население в пропорции два к одному превосходило женское, процветала проституция, переполнялись приюты” (Бродский И. Меньше единицы. С. 83). У В. Топорова этой теме посвящена целая страница (Топоров В. Н. Указ. соч. С. 32). Или: у Бродского: “...благодаря прямоте и длине улиц, мысли пешехода путешествуют дальше цели его путешествия, и человек с нормальным зрением может различить на расстоянии в полтора километра номер приближающегося автобуса или возраст следующего за ним шпика” (Бродский И. Указ. соч. С. 89); у В. Топорова опять же страница посвящена тому, насколько просматриваемым является Петербург, далее следуют около десятка примеров того, насколько далеко видит человек с определенной точки города: “наблюдатель, поставленный у главного входа в Адмиралтейство <…> видит одновременно (не меняя позиции) более чем на 6 км (!)” (Топоров В. Н. Указ. соч. С. 37).
20 Для Бродского и в России было характерно мыслить человека крупицей на фоне природы: “Нормальный дождь, обещанный в четверг, / надежней ржавых труб водопровода. / Что позабудет человек, /
то наверстает за него природа” (1969—1970). Сюда же укладывается петербургский сюжет о том, что однажды волна погребет под собой все созданное человеком в России: “Когда-нибудь оно, а не — увы — / мы, захлестнет решетку променада / и двинется под возгласы “не надо”, / вздымая гребни выше головы, / туда, где ты пила свое вино, / спала в саду, просушивала блузку, / — круша столы, грядущему моллюску / готовя дно” (1971). Отсюда постоянные моллюски и морские обитатели в дальнейшем творчестве — “Колыбельная Трескового мыса” (1975), “Новый Жюль Верн” (1976), “Часть речи”(1975—1976), “Шведская музыка” (1978), “Стихи о зимней кампании 1980 года” (1980) и т. д.21 Свое “российское” поэтическое кредо поэт, как представляется, высказал в том же переломном 1972 году в “Неоконченном отрывке”: “Так велико желание всего / живущего преодолеть границы, / распространиться ввысь и в ширину, / что, стоит только выглянуть светилу, / какому ни на есть, и в тот же миг / окрестности становятся добычей / не нас самих, но устремлений наших”. Результатом “устремления” освоить все, что видно глазу, освещено, можно считать добрую часть всего написанного Бродским в России.
22 И. Шайтанов пишет о том, что “метафизика пространства” станет центральной темой сборника “Урания” (Шайтанов И. Уравнение с двумя неизвестными. Поэты-метафизики Джон Донн и Иосиф Бродский // Вопросы литературы. 1998. № 6. С. 39). Однако новые отношения лирического героя и пространства начинают просматриваться в поэзии Бродского уже в 70-х годах. В этот период, как представляется, и формируется та точка зрения Бродского, с которой потом будет вестись наблюдение за пространством.
23 См.: Плеханова И. Формула превращения бесконечности в метафизике И. Бродского // Иосиф Бродский и мир. Метафизика, античность, современность. СПб.: Звезда, 2000. С. 38. Исследователь считает такой подход к пространству специфической чертой метафизической лирики, которая противопоставляется лирике натурфилософской, где лирический герой, осмысляя внешний мир, занимает не личную, а “общечеловеческую” точку зрения.
24 Ранчин А. Указ. соч. С. 31. Слово “баран” у Бродского если не рифмуется, то сопровождается словом “тиран” (“Подражая Платону”, 1975). “Баран” — последнее слово в цикле “Часть речи” (1975—1976). И через год в “Пятой годовщине” к слову “тиран” подбирается знакомая рифма. Мысль Бродского о том, что каждый человек, терпящий тирана, является бараном, вполне может объясняться и теми изменениями, которые в себе подметил сам поэт в 1978 году: “…я постарел, стал более требовательным, менее склонным к компромиссам, хотя, может, в компромиссах уже нет необходимости” (Захаров, с. 47).
25 “Разговор с небожителем” (1970) совсем иной, хотя здесь звучит мимолетом мысль — актуальная, правда, только в “ночной тиши” — о том, что “любая речь / безадресна, увы, об эту пору”. Но здесь лирический герой говорит с Богом! Потому и опыт такого разговора является особым, отнюдь не будничным. В Америке ситуация безответности становится обыденной, то, что в России у Бродского было метафизическим прозрением, стало в другом пространстве нормой — здесь безответным становится не небо, а весь окружающий мир. Ср.: “вернувшееся восвояси морзе” действительно “возвращается”, причем дословно, в “Эклоге 4-й (зимней)” (1980).
26 Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Независимая газета, 2000. С.169.
27 Ср., например, высказывание В. Полухиной: “В идеале Бродский хотел бы получить некий новый диалект: русский вжить в английский, а английский трансформировать в русский” (Полухина В. Английский Бродский // Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба. Итоги трех конференций. СПб.: Звезда, 1998. С. 56). Ученый приводит также высказывания английских коллег Бродского, которые подмечали в нем то же самое стремление.
28 Если отталкиваться от тех интервью Бродского, которые переведены на русский язык, получается, что впервые формула “Поэт — орудие языка” прозвучала осенью 1976 года, а в 1977 году активность языка была связана с Музой (эссе о Мандельштаме “Сын цивилизации”). В большом интервью 1973—1974 годов “Муза в изгнании” ни одной из этих формул не встречается, хотя после 1976 года обе установившиеся формулы звучат постоянно. Иными словами, самая хрестоматийная концепция Бродского формируется именно в 1975—1976 годах, если учитывать, что между написанным стихом и прозой у Бродского проходит примерно год: нужно ведь время, чтобы перевести в формулы то, что надиктовал язык.
29 На тему сходства положений в разных частях света Бродский высказался еще в 1972 году, но походя и одним предложением: “разница между положением писателя на Востоке и на Западе, по сути дела, не слишком велика” (VII, 69). В “Колыбельной…” это достаточно общее наблюдение-ощущение существенно конкретизировано.
30 Cр. на эту же тему: “Язык — очень личная вещь. Когда тебя перемещают, ты оказываешься в предельном уединении. Это тет-а-тет между тобой и твоим языком. Без посредников <...> Когда пишешь на своем языке в чужом государстве, начинают происходить странные вещи. Внезапно возникает множество страхов — забываешь это, забываешь
то <...> Короче говоря, пребывание вне своего экзистенциального контекста помогает создать более ясное представление о себе, о том, что ты такое физически и лингвистически” (Захаров, с. 68—69).31 Ср. в “Части речи”: “…в поисках милой всю-то / ты проехал вселенную, дальше вроде / нет страницы податься в живой природе”.
32 Если не считать стихотворения “1972 год”, которое посвящено разворачиванию нового состояния лирического героя — старения.
33 В одной из лучших книг о поэзии Бродского — книге Леонида Баткина — есть очень точное наблюдение об отношении поэта к будущему. Баткин, правда, привязывает выраженный срез мысли к возрасту поэта — 47 лет (1987-й — год получения Нобелевской премии). Но, думается, наблюдение ученого скорее применимо ко всему эмигрантскому периоду жизни Бродского, в особенности — к первым пяти годам, когда отношение к “состоянию изгнания” еще не установилось. Леонид Баткин пишет: “У Бродского было уже отнято чувство будущего. Ведь подлинное будущее — это когда впереди не только некоторое, пусть и скукожившееся, но неопределенное множество лет — главное, это все еще качественно открытое множество. То есть может еще случиться негаданная смысловая наполненность. До известного (или неизвестного?) возраста, до окончательного состояния души — будущее это когда возможны всякие странности и сюрпризы, когда жизненное приключение продолжается” (Баткин Л. Тридцать третья буква. Заметки читателя на полях стихов Иосифа Бродского. М.: РГГУ, 1997. С. 292).
34 Ср. продолжение этой мысли: “Беда или вредный аспект, я думаю, существования в недрах в том, что ты заворожен своей реальностью, ты не можешь от нее отстраниться и взглянуть на нее как на нечто архетипическое, как на нечто присущее виду” (Захаров, c. 426).
35 Ср. декабрь 1979: “Мой роман с английским языком начался сравнительно недавно, он мне еще в новинку” (Захаров, c. 77).
36 В 1979 году поэт признается: “По-английски я пишу свою прозу, это помогает обрести уверенность. Я хотел бы сказать даже вот что <...> на сегодняшний день английский язык — это главный интерес, оставшийся у меня в жизни” (Захаров, c. 106—107).
37 Впервые эта мысль звучит в “Мексиканском дивертисменте” (1975): “Так страницу мараешь / ради мелкого чуда. / Так при этом взираешь / на себя ниоткуда”, — затем в знаменитом начале цикла “Часть речи”: “Ниоткуда с любовью…”.
38 У Бродского есть стихотворение-двойник того, которое приведено выше. Написано оно в 1987 году: “Ни ты, читатель, ни ультрамарин / за шторой, ни коричневая мебель, / ни сдача с лучшей пачки бале-
рин, / ни лампы хищно вывернутый стебель / — как уголь, данный шахтой на-гора, / и железнодорожное крушенье / — к тому, что у меня из-под пера / стремится, не имеет отношенья. / Ты для меня не существуешь; я / в глазах твоих — кириллица, названья… / Но сходство двух систем небытия / сильнее, чем двух форм существованья. / Листай меня поэтому — пока / не грянет текст полуночного гимна. / Ты все или никто, и языка / безадресная искренность взаимна” (“Посвящение”). Совершенно очевидно, что та же лирическая ситуация, которая в 1976 году была предметом переживания, здесь является предметом (почти философского) осмысления. Отсюда сравнительная “тезисность” стихотворения.39 Внешний мир в цикле не воспринимается в целом и оказывается представлен случайно выхваченными кусками, которые не связаны между собой. При этом лирический герой неизбежно остается частью этого мира — в частности, “изгибается ночью на простыне”. Ср. об этом: “В “Части речи” вся история, вся культура, весь реальный мир находятся за пределами поэтического восприятия, имеются лишь отдельные обломки этого мира, невесть почему всплывшие на поверхность поэтического сознания и неизвестно чем друг с другом связанные <...> Имеется отвлеченный дом, где живет герой, отвлеченная улица, на которую он выходит из этого дома, отвлеченный городской или сельский пейзаж, реальный или возникающий в его воображении, причудливо сочетающиеся обрывки прошлой и настоящей жизни” (Крепс М. О поэзии Иосифа Бродского. Ann Arbor, 1984. С. 249).
40 Ср. “Речь в шведской Королевской Академии при получении Нобелевской премии” (1987): “…Выражая вам благодарность за решение присудить мне Нобелевскую премию по литературе, я, в сущности, благодарю вас за признание в моей работе черт неизменности, подобных ледниковым обломкам” (VI, 55).
41 Черный и белый — два основных цвета цикла “Часть речи”: “чернеет, что твой Седов, “прощай””, белизна дана с помощью образов “снега”, “инея” и “бумаги”, которые встречаются многократно.
42 В цикле “Часть речи” “след” входит в семантическое поле “языка”. Ср. количество употреблений в цикле разных элементов этого поля: “след” (4), “слова” (4), “снег” (3), “каблук” (4), “перо” (3), “язык” (3), “речь” (5), “память” (2) и т. д. В художественном мире цикла работает отождествление: язык всегда — след, а след всегда — язык. При этом атрибутика следа (то, что оставляет следы, на чем оставляет и т.д.) соотносится с атрибутикой процесса письма.
43 Мотив этот подготавливается с первого же стихотворения, в котором слово “ты” настолько предметно, что может взбить ночью подушку. Во втором — слово “прощай” чернеет, будто ледокол (или замерзающий во льдах советский герой) “Седов”. В четвертом стихотворении звучит пророчество: “моллюск” “с оттиском “доброй ночи”” будет выловлен “через тыщу лет”, и по этим оставшимся словам трагедии далекого прошлого будет не восстановить.
44 Даже в интервью, рассказывая о своей жизни в Америке, Бродский говорит о жизни “вовне” (Захаров, с. 378), противопоставляя ее жизни внутренней, выражаемой по-русски.
45 Ср. характерную реплику в одном из интервью, которая даже Бродским употребляется в философском смысле: “Это все происходит в этой точке пространства. В другой — этого уже не происходит” (Захаров, с. 382).
46 Через год в стихотворении “Пятая годовщина”, посвященном пятилетию своего отъезда с родины, Бродский весь образный ряд воспроизводимой по памяти страны строит на сломе логики, согласно которой одно следует из другого: “Уйдя из точки “А”, там поезд на равнине / стремится в точку “Б”. Которой нет в помине. // Начала и концы там жизнь от взора прячет”; “Там говорят “свои” в дверях с усмешкой скверной”; “Там украшают флаг, обнявшись, серп и молот. / Но в стенку гвоздь не вбит и огород не полот”.
47 А. М. Ранчин, например, пытаясь “восстановить правильный порядок слов” в этом отрывке, приводит десять вариантов, каждый из которых имеет право на существование (Ранчин А. М. Три заметки о полисемии в поэзии Иосифа Бродского // Новое литературное обозрение, 2002, № 56).
48Бродский И. Меньше единицы. С. 31.
49 Лотман Ю. М. Пушкин. СПб.: Искусство-СПб., 1995. С. 108.
50 Косвенное свидетельство этого — попытка Бродского “перевести” все свои “главные” мысли 1976—1977 годов в первом написанном по-английски стихотворении (“Elegy: for Robert Lowell”, 1977): здесь появляются и “божественная” точка зрения (“a point of needless / blinding shine”), и наложение внешнего мира на “хронотоп творения” (термин М. Бахтина), в котором определяющую роль играют белизна бумаги и чернота букв (“A child, commalike, loiters / among dresses and pants / of vowels and consonants // that don`t make a word”), и невозможность понять человека (“When man dies / the wardrobe gapes instead. / We acquire the idle state / of your jackets and ties”).
51 Волгина А. С. Функция заглавия в автопереводах Иосифа Бродского // Поэтика Иосифа Бродского. Сб. науч. трудов. Тверь: Тверской государственный университет, 2003. С. 71.
52 Там же. С. 66.
53 См. подробнее об этом: Полухина В. Указ. соч. С. 49—60.
Оригинал статьи находится в журнале «Вопросы литературы» (№3, 2005)
Источник: http://noblit.ru/content/view/108/33/
А.Волгина. Иосиф Бродский / Joseph Brodsky
10.05.2006 г.
Английская королева Виктория, прочитав удивительную сказку «Алиса в стране чудес», потребовала, чтобы ей принесли «все книги этого автора». Каково же было ее изумление, когда на ее письменный стол легли тома математических трактатов! Приближенные Ее Величества переусердствовали: вместе с книгами Льюиса Кэрролла — тонкого сказочника, мастера поэзии нонсенса — они принесли труды Чарльза Латуиджа Доджсона — известного математика, адепта чистой логики. Однако биографически два этих автора — одна и та же личность!
Подобная ситуация, судя по всему, возникла в случае с Иосифом Бродским и его английским alter ego.
События жизни Бродского в СССР складываются в развернутый миф о поэте-диссиденте; миф, изобилующий столь неправдоподобно яркими моментами, каких не встретишь и в вымышленных жизнеописаниях. Еврей в обществе, склонном к ксенофобии; юноша, осмелившийся в условиях тоталитарного режима оставаться вне каких бы то ни было — школа, организация, предприятие — рамок, предлагаемых социумом для существования индивида; человек, переживший глубокую личную драму — катастрофу в любви; молодой, но
уже негласно запрещенный к изданию поэт, снискавший дружбу-покровительство прижизненного классика — А. Ахматовой; диссидент, образ мыслей которого кардинально расходится с господствующей идеологией; узник совести, приковавший к себе внимание мировой общественности; и наконец — изгнанник, скиталец, Одиссей, так и не вернувшийся на свою Итаку.Авторская личность Бродского — синтез этой индивидуальной биографии и русской просодии. События жизни, проникая в текст стихотворений через сложную систему метафор, формируют один из наиболее значимых подтекстов творчества поэта; реалии советского социума становятся деталями художественного мира. Подобно биографическому, поэтическое «я» Бродского находится в неизбывном конфликте с некоей тоталитарной силой: общественной идеологией, атакующей, затягивающей пустотой, разрушительной диктатурой времени.
Однако 4 июня 1972 года, когда русская биография поэта перечеркивается вынужденной эмиграцией и авторское «я» в мифопоэтическом пространстве его творчества воплощается в образах Одиссея, Энея, Овидия, начинается вторая, разительно непохожая на первую, жизнь Бродского, происходит рождение нового, американского мифа о нем.
С самого начала эмиграции Бродский занял достойное место в западной словесности и филологической науке. Книги его русских стихов издавались и переиздавались. Бродский как равный был принят в круг англоязычных писателей, переводчиков и литературоведов первого ряда. Уже в 1972 году он выступал в Лондоне и Оксфорде вместе с У. Х. Оденом, оказавшим ему значительную поддержку в сложный период адаптации к новой жизненной и культурной ситуации. В том же году Бродский стал poet in residence в Мичиганском университете и поселился в Анн Арборе.
Параллельно с репутацией Бродского — деятеля культуры — усилиями самого поэта, его друзей и издателей создавалась и новая авторская личность: Joseph Brodsky, — само имя поэта в английском написании и произношении становится одной из важнейших манифестаций этой личности, частью тщательно создаваемого имиджа. Пророческое речение Ахматовой: «Какую биографию делают нашему рыжему — как будто он кого-то специально нанял» — реализуется почти буквально.
Вынужденный эмигрировать из СССР, Иосиф Бродский не только продолжил писать на родном языке — в этом он не одинок, но он также смог самоутвердиться как англофонный прозаик, поэт и переводчик. Созданные по-английски эссе Бродского широко известны в России благодаря прекрасным авторизованным переводам.
Однако Бродский — англофонный поэт и переводчик собственных стихов русскому читателю практически неизвестен, что вполне естественно: вряд ли многие захотят ознакомиться с переводами, имея возможность читать на языке оригинала, а из немногих заинтересованных далеко не все обладают достаточной лингвистической компетенцией, чтобы читать поэзию на иностранном языке.
Англоязычный читатель вынужден верить на слово критику-слависту, когда речь идет об оригинальных стихотворениях Бродского. Русским читателям предстоит составить мнение об англоязычном поэтическом творчестве Бродского прежде всего по рецензиям, опубликованным в центральных периодических изданиях Великобритании и США. Именно они представляют собой и средство и процесс формирования литературной репутации.
I
Бродский впервые появляется на страницах «Нью-йоркского книжного обозрения» («The New York Review of Books») — одного из наиболее влиятельных изданий США — еще до своего приезда в Америку. В номере за 4 мая 1972 года он упомянут как Iosif Brodsky в статье, посвященной журналу «Russian Literature Triquaterly», издаваемому К. Проффером. «Первые два номера этого нового журнала содержат важные ранее не печатавшиеся материалы: стихотворения Иосифа Бродского (по-русски) <…> фотографии Мандельштама, Ахматовой, Бродского и многое другое. Также в них напечатаны <…> переводы стихотворений Мандельштама, Гумилева, Ахматовой, Бродского, Ахмадулиной и Цветаевой и среди них ряд особенно удачных переводов из Бродского, выполненных Д. Л. Клайном и Д. Фуллером»1 .
Бродский предстает перед американским читателем как русский поэт, переведенный на английский язык первоклассными специалистами-англофонами. Но уже в следующий раз (апрель 1973) поэт фигурирует в «The New York Review of Books» как JOSEPH Brodsky: 3 стихотворения в переводе Д. Клайна напечатаны в сопровождении двух статей, принадлежащих перу У. Х. Одена и переводчика. Появление Одена в роли рецензента не случайно и исключительно значимо: хотя на данном этапе Бродский пока еще представлен читательской аудитории США как «русский поэт в английском переводе», он словно принимает творческую эстафету из рук одного из крупнейших англофонных поэтов ХХ века2 .
Вскоре после этого (9 августа 1973 и 7 февраля 1974) «The New York Review of Books» публикует рецензии Бродского в переводе К. Проффера и Б. Рубина с пометкой «Translated into English by…» В то же время Бродский делает первые попытки обратиться к читателю по-английски собственным голосом — без посредства переводчика: в разделе «Letters» появляются его письма в защиту В. Марамзина3 .
И наконец, в феврале 1977 года выходит эссе «На стороне Кавафиса» («On Cavafy’s Side»)4 , в котором отсутствует пометка об участии в работе над ним переводчика, хотя весьма логично предположить, что Бродскому при работе с английским языком все еще нужен был ассистент или по меньшей мере редактор.
Опубликованные в последующие годы эссе «Искусство Монтале» («The Art of Montale»)5 , «Надежда Мандельштам» («Nadezhda Mandelstam»)6 , «О Дереке Уолкотте» («On Derek Walcott»)7 , «В полутора комнатах» («In a Room and a Half»)8 , «Кембриджское образование» («A Cambridge Education»)9 украсили собой страницы ведущих американских и британских изданий и создали Бродскому репутацию блестящего англоязычного эссеиста и литературного критика. Большинство эссе были объединены в два сборника: «Меньше единицы» («Less Than One», 1986) и «О скорби и разуме» («On Grief and Reason», 1996), принесших автору ряд престижных литературных премий. Так, сборник «Less Than One», удостоенный премии Национального совета критиков США, был признан и в Англии «лучшей прозой на английском языке за последние несколько лет»10 . Таким образом, начало англоязычного творчества для Бродского ознаменовалось сменой даже не стиля, а рода литературы: первой формой взаимоотношений с новым языком стала проза.
Действительно, в первые годы эмиграции Бродский представлял себе своего английского двойника исключительно как прозаика. Так, в конце 70-х, отвечая на вопрос Соломона Волкова о «неминуемом переходе на англоязычные рельсы», он сказал: «Это и так, и не так. Что касается изящной словесности — это определенно не так. Что до прозы — это, о Господи, полный восторг, конечно <…> Н о с т и х и н а д в у х я з ы к а х п и с а т ь н е в о з м о ж н о, х о т я я и п ы- т а л с я э т о д е л а т ь» (разрядка моя. — А. В.)11 .
В этот же период Бродский рассказывал Свену Биркертсу: «Прежде всего, мне хватает того, что я пишу по-русски. А среди поэтов, которые сегодня пишут по-английски, так много талантливых людей! Мне нет смысла вторгаться в чужую область. Стихи памяти Лоуэлла я написал по-английски потому, что хотел сделать приятное его тени <…> И когда я закончил эту элегию, в голове уже начали складываться другие английские стихи, возникли интересные рифмы <…> Но тут я сказал себе: стоп! Я не хочу создавать для себя дополнительную реальность. К тому же пришлось бы конкурировать с людьми, для которых английский — родной язык. Наконец — и это самое важное — я перед собою такую цель не ставлю. Я, в общем, удовлетворен тем, что пишу по-русски, хотя иногда это идет, иногда не идет. Но если и не идет, то мне не приходит на ум сделать английский вариант. Я не хочу быть наказанным дважды. По-английски я пишу свою прозу, это помогает обрести уверенность»12 . Характерна реакция Бродского на статью, в которой он был упомянут как пример человека, успешно преодолевшего изгнание, ставшего на американской почве американским поэтом: «Лестно, конечно, но это полная чушь»13 .
Тогда еще Бродский, по собственному утверждению, «почетного места на американском Парнасе» не добивается. Однако участие Бродского в переводах собственных стихотворений от сборника к сборнику возрастало.
При жизни Бродского за рубежом в Великобритании и США вышли в свет четыре сборника стихотворений на английском языке14 . Посмертный том — «Собрание стихотворений на английском» (Collected Poems in English. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2000. 540 p.) объединил три последних книги.
Первый английский сборник Бродского «Selected Рoems» состоит исключительно из переводов Д. Клайна. Фамилия переводчика, как и имя автора вступительной статьи, вынесена на титульный лист: «Перевод и комментарии Джорджа Л. Клайна, вступление У. Х. Одена». Сборник открывает краткая биография автора, посвященная по большей части перипетиям его жизни в СССР. Интересно, что это последний английский сборник, где упоминается «русское» имя поэта: он представлен как «Joseph (Iosif Alexandrovich) Brodsky».
Во втором сборнике, «A Part of Speech», Бродский, усовершенствовавший свою языковую компетенцию, впервые заявляет права на участие в переводах собственных стихов — в качестве редактора. Во вступительном слове он пишет: «Я взял на себя смелость переработать некоторые переводы, чтобы привести их в большее соответствие оригиналам, хотя, возможно, и сделал это за счет гладкости. Я вдвойне благодарен переводчикам за их снисходительность». В результате 24 из 37 переводов были выполнены англоязычными переводчиками и 10 — переводчиками при участии автора. С этих пор, судя по всему, сотрудничество было организовано таким образом: переводчик либо принимал поправки Бродского и становился соавтором перевода, либо не принимал поправок — и снимал свое имя с текста. Второй вариант избрал, например, Д. Уэйссборт, автор первоначального перевода цикла «Часть речи», опубликованного в альманахе «Poetry» за март 1978 года15 . В сборник цикл вошел с пометкой «Перевод автора» и его принято рассматривать как первый образец автоперевода Бродского наряду с опубликованным в том же сборнике стихотворением «December in Florence» («Декабрь во Флоренции»)16 .
Однако начиная со сборника «To Urania» Бродский принимает на себя ответственность за звучание своей поэзии по-английски: начинается утверждение его англоязычного alter ego как переводчика с русского и англофонного поэта. В этом новом качестве Joseph Brodsky представлен и в биографической заметке, открывающей сборник: «Он также талантливый переводчик, переведший на русский язык английских поэтов-метафизиков и польского поэта-эмигранта Чеслава Милоша». 12 из 46 стихотворений, включенных в сборник, написаны по-английски, 23 являются автопереводами, 8 — результатом сотрудничества переводчика и автора и только 4 переведены англоязычными специалистами без участия автора.
Почему же Бродский, изначально не имевший намерения интегрироваться в иноязычную поэзию, заставил свое англофонное «я» осваивать английскую просодию? Вероятно, к этому шагу его подтолкнул характер критики, высказанной в адрес «A Part of Speech»: замечания делались в основном переводчикам, которые, работая с русским текстом, находились под влиянием англо-американских литературных клише и переводили принадлежащего к иной традиции поэта «под себя». В «To Urania» Бродский почти полностью меняет штат переводчиков: вместо поэтов первого ряда он приглашает к сотрудничеству профессиональных лингвистов, лучше владеющих техникой перевода, но не могущих сравниться с автором в масштабе поэтического гения и, вероятно, более склонных уступать его требованиям. Из переводчиков, принявших участие в работе над предыдущим сборником, в «To Urania» появляются только Джордж Клайн и Алан Майерс. Joseph Brodsky становится единственным вполне легитимным переводчиком поэзии Иосифа Бродского.
«So Forth» — последний прижизненный сборник поэта, наивысшее воплощение «английского Бродского». Действительно, из сорока переводов 32 выполнены автором самостоятельно, 7 — в сотрудничестве с переводчиком и только один перевод принадлежит перу Алана Майерса. Кроме того, в сборник включено 21 стихотворение, изначально написанное Бродским по-английски. В «So Forth» наиболее полное воплощение имеет интересная тенденция, наметившаяся еще в первом авторизованном сборнике переводов стихов Бродского. Среди стихотворений, вошедших в «A Part of Speech», есть четыре, не имевших заглавия в оригинале. Одно из них получает заголовок («Я всегда твердил, что судьба — игра...» — «I Sit by the Window»), а три других («Второе Рождество на берегу...», «Осенний вечер в скромном городке...», «Классический балет есть замок красоты...») указаны в оглавлении не по первой строке, а по первой фразе, без кавычек, тем же шрифтом, что и заголовки, в результате чего оглавление выглядит абсолютно однородным. В данном сборнике тенденция эта заметна лишь по контрасту с «Selected Poems», где все переводы озаглавлены таким же образом, что и оригиналы, — за исключением стихотворения «Малиновка», напротив, потерявшего заглавие в переводе Д. Клайна17 . Однако тенденция заметно усиливается в сборнике «To Urania», где 6 стихотворений, не озаглавленных в оригинале, получают заголовок наряду со всеми остальными18 , и приобретает характер последовательно воплощаемой авторской воли в «So Forth», где постороннее влияние сведено к минимуму: все стихотворения сборника (а их 61) оказываются озаглавленными, хотя 11 из них в оригинале заголовков не имели19 .
В контексте последнего сборника становится очевидной художественная задача, которую Бродский пытается решить, уделяя столь пристальное внимание заголовкам. Он использует оглавление наряду с титульным листом как средство направления читательского восприятия в нужное ему русло. Благодаря единому принципу наименования стихотворений оглавление сборника обретает однородность и монолитность, заголовки внутри его образуют своего рода тематические группы, внутри которых стирается грань между переводными стихотворениями и английскими оригиналами (например, «Кентавры» переведены с русского, а «Эпитафия кентавру» написана по-английски). К тому же, если в предыдущих сборниках фамилия переводчика следовала за каждым стихотворением и авторское участие в переводе специально оговаривалось, то в «So Forth» сведения о переводности / оригинальности стихов не присутствуют ни в корпусе текстов, ни в оглавлении — они напечатаны мелким шрифтом на отдельной странице вместе с выходными данными и сведениями об издательских правах. Таким образом, читатель изначально воспринимает книгу не как переводное издание, а как сборник англоязычной поэзии, созданной поэтом по имени Joseph Brodsky, чье имя стоит на титульном листе. Таким образом устанавливается дистанция между «русским» и «английским» Бродским. В читательском сознании Joseph Brodsky обретает некую независимость от своего русского alter ego и преодолевает свою вторичность по отношению к нему. Формирование авторской личности «Joseph Brodsky — англоязычный поэт-переводчик» завершено.
В последнем сборнике «Collected Poems in English», вышедшем уже после смерти поэта, происходит канонизация этой авторской личности. Фактически в этой книге под одной обложкой сведены все ранее вышедшие сборники Бродского начиная с «A Part of Speech»: структура их сохранена, но происходит унификация некоторых черт. На первой странице обложки внимание читателя сразу фиксируется на двух фактах, о которых он должен знать, приступая к чтению: «Нобелевская премия по литературе 1987» и «Переводы, рекомендованные Обществом поэтических изданий». На последней странице обложки появляются фамилии нескольких переводчиков Бродского: «…translated by A. Hecht, Howard Moss, D. Walcott, Richard Wilbur and others», но здесь же, ниже, в краткой аннотации цитируется заметка Бродского из «A Part of Speech» («Я взял на себя смелость переработать некоторые переводы…»). Вновь издатель указывает на мастерство Бродского-переводчика: «Его неизменная приверженность английскому языку, и в особенности поэтам-метафизикам, являла себя в усердии, с которым он читал на обоих языках и переводил. Он с равным энтузиазмом прилагал усилия к переводу своих произведений и создавал стихотворения непосредственно на английском». Имена всех переводчиков перечислены единым списком (без указаний на конкретные произведения: их понадобилось бы слишком много, учитывая объем издания) на странице, содержащей выходные данные и информацию об авторских правах, однако здесь им предшествует выделенное в отдельный абзац примечание редактора: «Все стихотворения сборника либо написаны по-английски, либо переведены с русского автором или при участии автора».
Таким образом, участие Бродского в переводе своих стихотворений предлагается понимать расширенно: в тех случаях, где поэт не выступил в качестве автора или соавтора перевода, он выступил как редактор — только так можно истолковать это примечание в отношении ранних сборников, где процент переводов, выполненных англофонными специалистами и не содержащих указания на сотрудничество с автором, довольно высок. В своем вступлении к сборнику редактор Анн Шелберг (Ann Kjellberg) соблюдает необходимые формальности, сообщая читателю в первом абзаце, что наряду со стихотворениями, написанными непосредственно на английском, и переводами, выполненными автором или при его участии, сборник содержит и несколько стихотворных переводов, выполненных другими переводчиками. Однако тут же редактор сообщает: «Мы склонились к выбору сообщать имена переводчиков и со-переводчиков в примечаниях. В этом мы следуем авторскому решению, принятому при работе над сборником “So Forth”, не указывать имена переводчиков на странице, где напечатано стихотворение, — как мы понимаем, таким образом поэт предлагает читателю воспринимать все стихотворения как тексты, изначально написанные по-английски; мы просим о снисхождении переводчикам Бродского, которым поэт неоднократно выражал свое восхищение и благодарность»20 .
Это сообщение чрезвычайно важно. Во-первых, редактор фактически закрепляет за Бродским преимущественное право на авторство переводов его стихов — право, о котором поэт впервые заявил в «A Part of Speech». Имена переводчиков становятся достоянием только наиболее терпеливых и вдумчивых читателей, — сноски расположены в конце книги и не очень удобны для пользования. Во-вторых, желание Бродского стереть грань между переводными стихотворениями и произведениями, написанными по-английски (мы говорили об этом, анализируя оглавление «So Forth»), здесь трактуется как ясно выраженная авторская воля. Кстати, в этом сборнике однородность оглавления приобретает особое значение — перед нами своего рода «полное собрание сочинений» Joseph’a Brodsky. Редакторы упустили только одну деталь: четыре стихотворения, не получившие заголовка при переводе, но указанные в оглавлении «A Part of Speech» по первой фразе без кавычек и потому не выделяющиеся из однородного перечня, в «Collected Poems in English» попадают в оглавление озаглавленными по первой строке. В результате графически они выбиваются и попадают в один ряд с переводами Бродского из Цветаевой («I will win you away from every earth, from every sky» и «Seeing off the beloved ones, I»), вошедшими в четвертый, дополнительный раздел книги «Uncollected Poems and Translations» (заметим, что и в этом разделе все остальные стихотворения носят заголовки). В остальном оглавление сборника однородно и едино, — выявленная нами тенденция ко взаимному тяготению заглавий продолжает работать и в объединенном пространстве всех трех оглавлений.
Так, уже после смерти поэта его душеприказчики закрепляют в сознании англоязычного читателя образ Joseph’a Brodsky таким, каким он сложился к последнему прижизненному сборнику. «Вторичная авторская личность» поэта дистанцируется и от такого явления, как «Иосиф Бродский в английском переводе»: в «Collected Poems in English» не вошли переводы Д. Клайна из сборника «Joseph Brodsky: Selected Poems». Во вступительном слове редактор поясняет: «Настоящее издание будет дополнено двумя сборниками переводов, находящимися в работе. Первый из них — это новое расширенное издание “Joseph Brodsky: Selected Poems” в переводе Д. Клайна: сборник вышел в США и Англии в 1973 году; он включает в себя большую часть стихотворений, написанных поэтом в Советском Союзе до эмиграции в 1972 году. Второй — выполненные другими авторами переводы стихотворений Бродского, написанных на русском после 1972 года и никогда не подвергавшихся автопереводу». Однако заметим, что до сих пор на страницах центральных книжных обозрений и литературных журналов США и Великобритании не появлялись переводы стихотворений Бродского, не вошедшие в прижизненные английские сборники поэта. Большинство первых газетных и журнальных публикаций — это окончательные редакции, напечатанные впоследствии в представленных выше изданиях, тексты, прочитанные и одобренные (или отредактированные) автором21 .
Рецензенты разделяются на несколько групп. В первую из них входят лица, непосредственно причастные к созданию американского мифа о Joseph’e Brodsky. Они судят о нем не столько по его англоязычной поэзии и автопереводам, сколько по опыту личной дружбы и творческого сотрудничества. Их мнение основано не на отдельных текстах, а на близости им философских и эстетических установок, художественных методов поэта. К этой группе несомненно относится У. Х. Оден, учитель и проводник Бродского в англоязычной поэзии; Д. Уолкотт — поэт, талантом которого Бродский восхищался настолько, что написал эссе, посвященное ему, переводчик, принявший участие в работе над сборником «A Part of Speech»; Д. Уэйссборт — многолетний друг и терпеливый переводчик Бродского. Все они немало содействовали становлению «английского Бродского» и вхождению его в пространство американской и британской культуры.
Вторую группу составляют рецензенты, которые апеллируют по большей части не к поэтическому «я» Бродского, явленному в его английских сборниках, а к международной репутации поэта. Такие рецензенты характеризуют Бродского как знаковую фигуру в культурной жизни Америки и Европы, а не как автора данного, конкретного корпуса текстов. Они настолько находятся под обаянием творческой личности поэта, что либо не находят нужным пристально разбирать его произведения, либо готовы самые недочеты их представлять как достоинства. К такой интерпретации, например, располагает статья Майкла Хоффмана.
Особенно значима группа рецензентов, знающих русский язык, таких, как Д. Бэйли, С. Биркертс, Ч. Симик. Они четко разделяют для себя две ипостаси Иосифа Бродского: смысловой анализ его поэзии, оценка его роли в мировой культуре в их статьях происходят на материале оригинальных текстов, «вторичную авторскую личность» они воспринимают исключительно как переводчика, последовательно реализующего неприемлемые для английской поэзии переводческие принципы, — именно он-то и является объектом их критики. Возможно, именно для таких читателей-англофонов, читающих по-русски, и творил «английский Бродский»: возможно, он замышлял автопереводы как путеводители по его подлинной, русской поэзии, своего рода автокомментарии, не доработанные до гладкости самостоятельного произведения, а лишь помогающие иноязычному читателю разобраться в многослойном русском тексте, уяснить себе его стиховую структуру22 .
И наконец, последняя, наиболее критически настроенная группа состоит из рецензентов, которые принимают вызов Бродского: внешнюю независимость Joseph’a Brodsky от его русского alter ego они воспринимают как желание поэта быть прочитанным по-английски, в контексте англо-американской поэзии, безотносительно к русскому оригиналу. Что они и делают. Так появляются на свет разгромные рецензии Питера Портера, Дональда Дэви, Кристофера Рида и Крэга Рэйна. Здесь поэт фактически попадает в им самим подстроенную ловушку: вместо того чтобы защищать свое русское alter ego от некомпетентных суждений и служить проводником к нему для англоязычного читателя, отваживающегося читать по-русски, Joseph Brodsky подменяет собой Иосифа Бродского и ставит под сомнение его международную репутацию. В действительности не он, а великий русский поэт заслужил Нобелевскую премию, но она становится частью его биографического мифа, попадая на обложки его сборников, — и вот уже раздаются упреки в том, что величайшая литературная награда попала не по адресу.
Joseph Brodsky пытается воспроизвести глубокое философское содержание, сложную метафорику оригинального текста, но возмущенные лингвистическими, просодическими недочетами его текстов рецензенты не могут — или не хотят — оценить его усилия и «вычитать» мысль из неаутентично звучащей строки, — и вот уже они утверждают, что Бродский как мыслитель был вполне зауряден, а как стилист склонен к неуместным выкрутасам. Реализованный в поэзии Бродского образ поэта-изгнанника, поэта — непризнанного пророка выглядит неубедительно и мелодраматично на фоне биографического мифа и общественного имиджа преуспевающего американского литератора и университетского преподавателя, что и констатируют рецензенты. В ряде случаев они намекают, что опасность проникновения в переводы чужой — но органично английской — стилистики было бы для поэзии Бродского «меньшим злом», чем то, что он сам делает с нею, и отказ от помощи профессионалов после сборника «A Part of Speech» стал роковой ошибкой. Следует отметить, что все перечисленные рецензенты являются современными англофонными поэтами первого ряда. Они — плоть от плоти английского языка, «ведущего» и «направляющего» их так же, как Бродского — русский. И хотя нельзя сбрасывать со счетов и некоторую предвзятость перечисленных рецензентов, вызванную ревностью «собратьев по перу» к мировой славе Бродского, нельзя также и предлагать им признать правомерность насилия, совершаемого иностранцем над английским языком в попытке заставить его звучать как русский.
II
Сборник «Joseph Brodsky: Selected Poems» был принят доброжелательно и в США, и в Англии. Первые рецензии представляют собой традиционные отзывы на сборник переводной поэзии: смысловой анализ произведений и оценка качества переводов разведены, причем последнему уделяется гораздо меньше внимания, чем первому, хотя, казалось бы, критики ориентируются именно на опубликованные переводы, а не на оригинальные тексты. Восприятие рецензентов было подготовлено и в некотором смысле предопределено статьей У. Х. Одена (публикация предшествовала выходу книги в свет)23 . Многие особенности оденовского эссе станут характерными чертами большинства ранних рецензий на «английского Бродского». Так, например, автор признается в незнании русского языка, ограничивающем его восприятие рецензируемых текстов: «Поскольку я не знаю русского языка и вынужден в моих суждениях опираться на английские переводы, я могу лишь догадываться, что представляют собой стихотворения Бродского». Однако здесь Оден имеет в виду лишь невозможность судить о структуре, стиховой конструкции рассматриваемых произведений; он убежден, что переводы в достаточной мере передают философский и эстетический потенциал, заложенный в поэзии Бродского. Его интересует не столько данная подборка стихотворений, сколько художественный мир поэта в целом, и переводы Д. Клайна не создают ощутимых препятствий: «По прочтении переводов профессора Клайна я без колебаний заявляю, что по-русски Иосиф Бродский, несомненно, является поэтом первого ряда, человеком, которым должна гордиться его страна».
Артур Коэн рассматривает избранные стихотворения как своего рода духовную биографию Бродского и называет его «величайшим поэтом своего поколения»24 . Критик высоко оценивает и переводы Клайна: по его мнению, Бродский переведен «всегда достойно, нередко с воодушевлением, иногда блестяще». «Times Literary Supplement» ограничивается краткой нейтральной заметкой о выходе сборника в свет25 . Качество переводов не обсуждается — книга охарактеризована в самых общих чертах.
Сборник «A Part of Speech» также в целом был благосклонно принят англо-американской критикой. Харольд Пинтер (Harold Pinter) называет его среди «книг года» — издательских новинок, рекомендуемых «The Observer Review»26 , характеризуя Бродского как «поэта истинного благородства». Дерек Мэхон (Derek Mahon) в «London Review of Books» положительно отзывается и о самом поэте, и о его переводчиках: отмечая «барочную виртуозность» сборника, он называет Э. Хекта и Р. Уилбера «поэтами, блестяще владеющими техникой стиха», а Бродского — «мастером сложных форм»27 .
Однако Джон Бэйли (John Bayley), выступивший с рецензией в журнале «Parnassus», воспринял «A Part of Speech» критически: впервые в адрес Бродского раздаются серьезные замечания. Бэйли усматривает в переводных произведениях Бродского типологическое сходство с поэзией Одена и Лоуэлла, не присущее оригиналу, и делает вывод о некоей стилизованности переводов «под английскую поэзию», что кажется ему серьезным недостатком. Поэтический язык Бродского приближается к языку прессы, чему немало способствует использование американского варианта английского. Стихотворения звучат так, как будто они рассчитаны на публику, — бойкие переводы скрывают подлинную сущность стихотворений Бродского, превращают их в «изощренное сотрясание воздуха» (sophisticated razzmatazz): «И это печально, поскольку это искажает их, искажает их, по всей видимости, при попустительстве и поддержке их автора»28 .
Поскольку Бэйли все еще отделяет автора — русского поэта Иосифа Бродского — от переводчиков (в том числе и самого поэта в этой роли), критика перевода одновременно служит своего рода комплиментом оригиналу: «Как мы видим, несмотря на все усилия Джорджа Л. Клайна, в переводе это едва ли можно назвать поэзией, и тем не менее сила и блеск оригинала дают себя знать <…> В этом искусно выполненном и гладком переводе отчасти сохранен дух оригинала, однако сама эффективность его сбивает с толку, создавая впечатление, что это и есть “настоящий” Бродский. Бродский кажется хуже и поверхностнее, чем он есть на самом деле. Кажется, что он манипулирует стандартизованной пост-оденовской поэтической техникой, которая иногда почти переходит в пародию»29 .
Сходные замечания высказывает и Питер Портер (Peter Porter)30 — известный критик и крупный поэт. Он считает, что Бродскому повезло с переводчиками и со-переводчиками: «Их имена звучат как перекличка некоей Академии англоязычных поэтов: Хект, Уилбер, Уолкотт, Уэйссборт. Некоторые из них выдающиеся британские и американские ученые». Однако переводы показались Портеру «неубедительными»: поэты-переводчики, испытавшие на себе влияние Одена, Кавафиса и других, но преодолевшие его в собственном творчестве, привили это влияние поэзии Бродского, нарушив связь ее с русской поэтической традицией. «Английские стихотворения, включенные в эту книгу, разумеется, демонстрируют искушенность и виртуозность переводчиков, но по-русски они, должно быть, звучат более естественно», — полагает критик. Впоследствие П. Портер вновь возвращается к этой теме: «Поэты, с которыми Бродский работал в “A Part of Speech”, и в их числе Энтони Хект и Ричард Уилбер, — прирожденные денди. Как следствие, сборник приобрел совершенно неуместную гладкость в стиле интеллектуальной элиты, так что произведение, давшее название книге, в английском переводе самого автора звучало наиболее убедительно»31 .
Такого же мнения придерживается и американский критик Роберт Хасс (Robert Hass)32 , причем настроен он еще более радикально. Хасс считает, что большинство переводов из «A Part of Speech» следовало бы включить в «антологию плохой поэзии». Впервые в отношении Бродского он остро ставит вопрос об адекватности эквиметрического перевода с сохранением рифмы и о восприятии такого перевода англоязычным читателем. «Нам часто напоминают, что русский — флективный язык, характерной особенностью которого является многосложность, с гораздо более свободным порядком слов, нежели английский. Более того, английская поэзия значительно более древнее искусство [нежели русская]. В Америке стихотворение со строгим размером, вероятнее всего, вызовет в воображении образ некоего поэта, который носит галстуки и обедает в университетском клубе. В России метрический стих распространен повсеместно <…> Переводя стихотворения Бродского, которые и без того сложны для перевода, приходится уделять внимание их форме; а это создает новые трудности, ибо стиховая форма, переданная по-английски, вполне может быть прочитана совершенно в ином ключе»33 . Переводчики, по мнению рецензента, не справляются с формой стиха Бродского, затрудняются с выбором тона, заставляя Бродского звучать то как «англичанина-интеллектуала неопределенного возраста», то как «наемного писца XVIII века, взявшегося переписывать Шекспира»; их выбор поэтической лексики зачастую абсурден. Достойные переводы составляют немногочисленные исключения. Однако Хасс не возлагает ответственность за эту «расправу над поэзией» на автора: напротив, подобно Питеру Портеру он называет автоперевод цикла «Часть речи» в числе главных удач сборника.
Критика в адрес Бродского — переводчика собственных стихов возникает на данном этапе лишь в одной рецензии — статье Кларенса Брауна34 . Доброжелательно озаглавленная («Лучшая русская поэзия сегодняшнего дня»), рецензия сконцентрирована преимущественно на фигуре самого Бродского и достоинствах его поэзии в оригинале. Однако критик упоминает также об «идеальном русском читателе», слышащем в стихотворениях Бродского отголоски предшествующей русской традиции, что подготавливает его восприятие, и об «идеальном английском читателе», чей слух может быть оскорблен слишком явными перекличками «Бродского в переводе» с классиками англо-американской поэзии. Брауну нравится «Элегия на смерть Роберта Лоуэлла», написанная Бродским по-английски, однако автопереводы вызывают серьезные нарекания: «15 стихотворений из второй части книги временами высокопарно книжны, временами — идиоматически неточны, временами непонятны»35 . Так впервые как характеристика автопереводов Бродского появляется слово «непонятный, непостижимый».
Итак, по мнению ряда рецензентов, переводчики «A Part of Speech» не лучшим образом справляются с задачей, однако репутация поэта от этого не особенно страдает — он лишь «допускает и поощряет» искажение своих текстов в процессе перевода. Подписанный им перевод цикла «Часть речи» представляется большинству рецензентов вполне удовлетворительным.
Вышедший вскоре после присуждения Бродскому Нобелевской премии сборник «To Urania» привлек к себе внимание практически всех центральных периодических изданий США и Великобритании. Рецензии становятся более обширными и детализированными. Именно начиная с этого времени рецензенты «английского Бродского» делятся на два лагеря: критиков и защитников.
Дерек Уолкотт, несомненно, относится ко второй категории рецензентов. В статье «Производство чуда» он преклоняется перед гением Бродского-поэта, чрезвычайно комплиментарно отзывается о Бродском-переводчике, а также отклоняет существующую и гипотетическую критику в адрес автопереводов и английских стихотворений, опубликованных в сборнике «To Urania». Английского Бродского Уолкот ставит в один ряд с Байроном, Донном, Китсом и Спенсером. Автопереводы он оценивает как вполне самостоятельные поэтические произведения на английском: «Читатель совершенно не испытывает тоски по русскому оригиналу, не чувствует, что нечто было опущено, потеряно или не передано в переводе», «читатель задумывается, так ли русский язык оригинала насыщен свистящими согласными, как и английский Бродского, а не наоборот»36 . Бродский, по мнению Уолкота, сознательно стремится к тому, чтобы его стихотворения на английском читались как оригинальные произведения, а не как переводы, однако он не пытается придать им гладкость, скрывающую в переводе подлинную сущность таких поэтов, как Пастернак, Цветаева и Мандельштам. Бродский не редактирует свою поэзию, следуя англоязычным образцам: «...когда он решает написать стихотворение по-английски <...> ничто в его произведении не указывает на то, что он следует некоему образцу, испытывает на себе влияние какого бы то ни было другого писателя, включая Одена <…> Всякий раз, когда Бродский звучит по-оденовски, это не подражание, а дань почтения, открыто приносимая поэтом»37, — так Уолкотт отводит от Бродского замечания по поводу переводов его поэзии «под Одена и Кавафиса», прозвучавшие в рецензиях на «A Part of Speech». Далее он оппонирует критикам, утверждающим, что автопереводы Бродского звучат «не по-английски»: по его мнению, критик прав «в историческом, грамматическом смысле — я имею в виду не грамматические ошибки, а определенный грамматический тон»38 , однако уход поэтической речи от языка повседневности, разговорного английского, в свое время с тем же успехом мог бы быть поставлен в упрек Донну, Милтону, Браунингу и Хопкинсу.
Значительное место в рецензии занимают рассуждения о структурных особенностях стиха Бродского. Уолкот признает: «При переводе на английский шестистопная рифмованная структура, обычная для русской поэзии, рискует вызвать ассоциации комического, пародийного или иронического характера. Ни один современный английский или американский поэт не пойдет на такой риск, как употребление женских окончаний в совершенно серьезном контексте...»39 Однако, избегая комических (О. Нэш) или «архаичных» (Байрон) ассоциаций, которые вызывают точные рифмы и длинные строки, современные англофонные поэты лишают свои произведения афористичной точности мысли, эпиграмматичного остроумия и теряют связь с традицией поэтического искусства. Для поэзии Бродского такие потери неприемлемы, он намеренно противопоставляет свое творчество современной англоязычной поэзии: «Он возвращает дисциплину к тому, чем она должна быть, — к творческим мукам»40 . В заключение своей рецензии Дерек Уолкот отмечает, что, хотя новый сборник и не включает в себя столь блестящих примеров «пересоздания» русского стихотворения в английском языке, как «Шесть лет спустя» в переводе Р. Уилбера, все же он, в отличие от «A Part of Speech», представляет собой не антологию поэзии Бродского в интерпретации современных американских поэтов, а единое целое — книгу, обогатившую англоязычную литературу.
В целом положительна — хотя и не столь восторженна — рецензия, появившаяся в британском журнале «Poetry Review»41 . Джордж Циртес настроен по отношению к английскому Бродскому довольно комплиментарно. Его статья представляет собой анализ тем и мотивов поэзии Бродского (время и пространство, любовь, разлука), метафизики поэта, метафорического строя стихотворений; особое место уделено разбору поэмы «Горбунов и Горчаков» в переводе Гарри Томаса. Рецензент в одном ряду рассматривает переводы самого автора и профессиональных переводчиков. Он восхищается свободой Бродского в обращении с английским языком, «железной структурой» его стиха и гибкостью словаря, хотя и отмечает отдельные недочеты. «Переводы — как самого автора, так и его сотрудников, — как я уже сказал, небезупречны. Как результат щеголянья виртуозной техникой, гибкость лексики иногда вдруг оборачивается чрезмерной замысловатостью и гротеском»42 . Впрочем, «развязная, почти сленговая грубость» поэтического словаря английского Бродского представляется Джорджу Циртесу не недостатком, а стилистической особенностью переводов. Наибольшие нарекания у рецензента вызывают «Двадцать сонетов к Марии Стюарт», переведенные Бродским после того, как он отверг перевод П. Франса. Свои критические замечания Циртес заключает следующим выводом: «В книге есть досадные недочеты и маньеризмы, но не имеет особого смысла на них останавливаться»43 . Книгу в целом рецензент принимает.
Нейтральна по тону рецензия, опубликованная в воскресном выпуске основной британской газеты «The Sunday Times»44 , однако в ней доля критических замечаний увеличивается. Рецензент Джордж Стайнер с почтением отзывается о Бродском-поэте, сравнивая его с величайшими стихотворцами античности. Но в то же время, сам не владея русским языком, он задается вопросом, насколько переводы адекватны оригиналам: «Сколь многое было потеряно и сколь значительна разница в музыке значений? И прежде всего, были ли моменты, в которые даже такой гениальный версификатор и мастер метаморфоз, как Бродский, вынужден был снизойти до “переводческого диалекта”, таких употреблений американского английского, которые ближе к русскому языку оригинала, чем к самим себе». Далее Стейнер приводит ряд цитат из автопереводов Бродского, которые, по его мнению, звучат несколько «неологично», странно и принужденно. Однако критик готов оправдать это сложными условиями, в которых творит Бродский: политическое изгнание и одновременная работа с двумя весьма несхожими языками.
Мысль о создании Бродским «собственного» английского языка по образцу русского звучит и в рецензии Д. Бэйли45 . «Язык его превратился в некую неразделимую смесь — “бродское” наречие, состоящее из русского, английского и массы иных ингредиентов. Это замечание справедливо не во всех отношениях, ибо русский язык Бродского остался практически беспримесным и чистым в русле пушкинской традиции и в то же время исключительно подвижным»46 . Будучи крупным ученым-славистом, Бэйли в состоянии оценить оригиналы Бродского — именно по ним в первую очередь он и судит о масштабе поэта, опираясь на них, рассуждает о темах и мотивах. Бэйли признает исключительные достоинства английской прозы Бродского, однако считает, что тот «не стал еще английским поэтом». Бэйли уважает смелость, с которой Бродский употребляет английские рифмы, однако указывает на возможность комических ассоциаций, которые такая рифмовка вызывает. Критик видит заслугу Бродского перед англоязычной поэзией в том, что тот стремится возвысить поэтический язык над языком повседневности, но тем не менее считает, что, при всем масштабе дарования, Бродский не в силах преодолеть максиму, сформулированную Р. Фростом: «Поэзия это то, что теряется в переводе».
Однако еще три рецензии — и две из них в крупнейших книжных обозрениях Великобритании «Times Literary Supplement» и «London Review of Books» — носят ярко выраженный критический характер.
На страницах «The Observer» Питер Портер возмущенно задается вопросом, «так ли хорошо Бродский и компания переводят с русского на английский»47 . Как полагает рецензент, Бродский по-английски «редко звучит естественно или хотя бы убедительно»: «Он [Бродский] — тот редкий случай, когда поэт владеет английским почти так же хорошо, как и носители языка: именно близость к идиоматике и провоцирует его на вспышки виртуозности, когда он переводит свои стихотворения или непосредственно создает их на английском». Стихотворения из сборника «To Urania» «своеобразны до непостижимости» и полны «барочных выкрутасов»: «Он забалтывается, повторяется и нисколько не интересуется эффективностью своих рифм, ритмов и выразительных средств. Слова валятся друг на друга, шутки не выходят, а сленг используется в самых неподходящих местах». В отличие от Джорджа Циртеса, находящего в сборнике Бродского лишь отдельные недочеты, Портер воспринимает как исключения удачные строки и лаконичные, непозерские стихотворения. В целом же он оценивает книгу чрезвычайно низко. Речь о Бродском Портер завершает прозрачным намеком: судя по сборнику «To Urania», Нобелевская премия, присужденная Бродскому, была политическим демаршем, а не заслуженной поэтом наградой48 .
Дональд Дэви (Donald Davie) — известный критик, литературовед и поэт, — хотя и выражает свое мнение не так резко, однако его оценка едва ли не наиболее негативна49 . Его статья «Насыщенная строка» не краткая эмоциональная реплика, подобно заметке П.Портера. В ней находится место и анализу, и обширным цитатам, и историческим справкам. Дэви полагает, что английские стихотворения Бродского до отказа перегружены тропами, «гиперактивными метафорами», игрой слов. По мнению рецензента, поэт, скрупулезно восстанавливая размер оригинального стихотворения в переводе, упускает из виду тот факт, что строгие метры русской поэзии абсолютно неприемлемы для английской просодии: «Наши ритмы, даже дробные десятисложники Марло или Драйдена, менее четки и более вариативны, нежели ритм трехсложных размеров, характерных для русской классической поэзии. Коль скоро это так, последствия чрезвычайно важны, ибо это означает, что рокочущая русская строка благополучно управляется с громыхающими в ней блистательными тропами и “конкретными физическими деталями”, под весом которых более легкая английская спотыкается, запинается и запутывается». Употребление анжанбеманов в англоязычной поэзии, по мнению критика, также требует значительно большей деликатности, нежели демонстрирует Бродский в своих автопереводах: «Коль скоро единство строки в английской поэзии менее определенно, нежели в русской, анжанбеман подвергает это единство куда большему риску, чем думает Бродский». Как результат в ряде стихотворений Бродского сохраняется только метрическое и графическое, но не музыкальное, интонационное единство. Строфы Бродского в переводе выглядят громоздкими, а сложная рифмовка — искусственной, вымученной. Финал рецензии Дональда Дэви, пожалуй, еще более нелицеприятен, чем реплика Питера Портера: Бродский, разумеется, «высокоодаренный поэт, серьезно относящийся к своему призванию», но критики, поторопившиеся с высокими оценками его англоязычного творчества, сослужили ему плохую службу, а присуждение ему в возрасте 47 лет Нобелевской премии было не только преждевременно, но и губительно. «Мы сделали из него монумент и икону, прежде чем научились видеть в нем страдающего человека и добросовестного мастера», — полагает Дональд Дэви.
Рецензия Кристофера Рида получила броский и симптоматичный заголовок «Великая американская катастрофа»50 . Рид не делает замечаний общего характера — он разбирает ряд примеров того, как Бродский в «To Urania» «не справляется» с английским языком, допуская стилистические — а то и просто грамматические — ошибки. Таким образом, рецензент подвергает сомнению не только талант и навыки Бродского как переводчика, но и саму языковую компетенцию поэта: «У Бродского, очевидно, возникают проблемы не только с временами, но и с предлогами, союзами, порядком слов в предложении, образованием формы родительного падежа и прочими мелочами, которые, возможно, и не укладываются в рамки учебника грамматики, но тем не менее используются на практике и демонстрируют уровень лингвистической подготовки говорящего или пишущего». Автопереводы Бродского звучат не по-английски: это все тот же «переводческий диалект», неологически созданный на грани оригинального и переводящего языков. Бродский взялся за перевод и сочинение на английском без должной подготовки, считает критик, он слишком поторопился, объявляя себя главным, если не единственно полномочным, интерпретатором своей поэзии на английском языке и диктуя свою волю специалистам, которые самостоятельно справились бы с работой значительно более квалифицированно: «Сама ткань и движение стиха с его какофонией, его на скорую руку сделанными анжанбеманами, его отчаянными метаниями между многословием и недоговоренностью и общей своеобычностью его тона, по всей видимости, поддерживают такую интерпретацию».
Рид готов признать, что вследствие столь экзотичного обращения с языком в англо-американскую поэзию с автопереводами Бродского могло бы войти «нечто свежее, здоровое, обладающее творческим потенциалом», как это происходило в прошлом с творчеством таких новаторов своей эпохи, как Милтон, Китс и Хопкинс, но эксперименты этих поэтов основывались на глубоком и органичном понимании английской идиоматики, тогда как новации Бродского демонстрируют отсутствие языкового чутья. Стихотворения, написанные по-английски, производят на критика лучшее впечатление, нежели автопереводы, и внушают надежду, что, затратив должные усилия на овладение поэтическим мастерством, Бродский может стать если не величайшим американским поэтом, то по крайней мере автором текстов, которые будут читаться с восхищением и удовольствием.
В целом в рецензиях на сборник «To Urania» объектом критики становятся не столько переводчики, сколько сам поэт. Однако попытка свести воедино мнения, высказанные рецензентами в адрес сборника «To Urania», вызывает серьезные трудности: наряду с единодушно негативным (и временами совпадающим даже в формулировках) мнением критиков «The Observer», «London Review of Books» и «Times Literary Supplement» и умеренно-критичными отзывами Д. Стайнера и Д. Бэйли, мы встречаем комплиментарную статью Д. Циртеса и восторженное эссе Д. Уолкота. При наличии столь взаимоисключающих мнений положительные рецензии могли иметь место вследствие ситуации, сформулированной П. Портером: «Хорошо переводить поэзию — очень трудное дело. Коммуникация запутывается вследствие доброжелательности читателя, его желания принимать стремления переводчика за достигнутый им результат»51 . Или же они отражали субъективную оценку, основанную не на беспристрастном анализе рецензируемого текста, а на личном расположении критика к автору. Что же касается негативных отзывов, то они могли явиться первой реакцией на нечто новое, не имеющее прецедента и не завоевавшее еще себе места под солнцем. Тем интереснее проследить дальнейшее развитие отношений «английского Бродского» с британской и американской литературной критикой.
Сборники «So Forth» и «Collected Poems in English», вышедшие уже после смерти Бродского, имеют особенно важное значение: первый — поскольку он оказался последней книгой, составленной самим автором, и был воспринят как некий жизненный итог, творческое завещание поэта, а второй — поскольку он представляет собой наиболее полный свод поэтического наследия «английского Бродского». Статьи, посвященные этим двум книгам, в большинстве своем также приобрели обобщающий, итоговый характер: в них мы находим и подробные биографические справки, и оценки роли И. Бродского в мировой культуре ХХ века, и ретроспективные обзоры ранних книг поэта, и, разумеется, анализ произведений, включенных в рецензируемые сборники. Говоря о «So Forth», многие критики обращаются и к книге, объединившей эссе Бродского последних лет («On Grief and Reason»).
На этот раз обсуждение в британской печати приняло характер открытой полемики.
Марианна Уиггинс в заметке на страницах «The Times»52 дипломатично уходит от разговора о сборнике поэзии, концентрируя свое внимание на эссеистике. Лишь упомянув «So Forth», она немедленно награждает «On Grief and Reason» целым рядом комплиментарных эпитетов. Она сообщает, что звучание английской поэзии Бродского ни в какое сравнение не идет со звучанием его русских стихотворений, но готова отнести это на счет не поэта, а объективного несходства русского и английского языков. Эта лингвистическая проблема, как полагает рецензент, стала бы фатальной для менее гениального поэта, но Бродский сумел реализовать свою любовь к английскому языку — через эссеистику: «Именно через призму эссе наиболее четко виден его блестящий интеллект» (заметим в скобках, оценить Бродского-мыслителя по его английской поэзии рецензент не предлагает). Далее М. Уиггинс обращается исключительно к сборнику «On Grief and Reason», рекомендуя его к прочтению.
Наиболее скандальной и наиболее часто цитируемой как критиками английского Бродского, так и его защитниками (последними в качестве образца несправедливого и неквалифицированного суждения) стала статья одного из самых выдающихся англофонных поэтов современности Крэга Рэйна «Репутация, подлежащая инфляции»53 . Не более резкая по тону, чем рецензия Дональда Дэви на сборник «To Urania», статья К. Рэйна вызвала значительно больший резонанс: в ней Бродский критикуется не только как англоязычный поэт, но и как эссеист, не только как версификатор, но и как мыслитель; вопрос уже даже не в том, заслужил ли он Нобелевскую премию, а в том, оправданно ли вообще его международное признание.
Оставляя в стороне замечания к эссе и «десакрализацию» личности Бродского, рассмотрим критику в адрес автопереводов из сборника «So Forth». Крэг Рэйн утверждает: «...этот последний <...> том “So Forth” и неуклюжая, хромающая проза “On Grief and Reason” демонстрируют, что Бродский ни в коем случае не является ровней или соперником Набокова: он так и не сумел подняться выше начального уровня владения своим вторым языком». По мнению рецензента, автопереводы Бродского грешат многословием и дешевыми сантиментами, изобилуют непонятными, туманными фразами, грамматическими и стилистическими ошибками. Поэт то злоупотребляет коллоквиализмами, что демонстрирует не легкость в обращении с языком, а неуклюжесть иностранца, то впадает в архаичность — как на уровне лексики, так и на уровне грамматических структур. Его рифмы натянуты, хотя ради них Бродский готов пожертвовать даже синтаксическим и смысловым единством строки, его ассонансы режут ухо — поэт не в ладах с английской фонетикой и готов принимать два разных гласных звука за варианты одного. Приводя такие суждения и иллюстрируя их примерами из автопереводов Бродского, Крэг Рэйн приходит к следующему выводу: «Он был нервной посредственностью мирового класса, блефующей, но знающей, сколь ненадежно его чувство английского языка, ставшее основой для его международной репутации».
Беря Бродского под защиту, Майкл Хоффман считает, что К. Рэйн, а до него К. Рид «не поладили» с английским Бродским исключительно из-за своеобразной природы метафорического строя его поэзии: «Большинство его метафор точно или полно не подлежат зрительному восприятию <…> Непохожесть и преувеличение важнее для образа, чем сходство и правдоподобие <…> Он более зависит от напряжения мысли, чем от зрительного впечатления <…> Кроме того, образ кинетичен, он гальванизирует, он действен; он не декоративен и совершенно необязательно гармонично сочетается с тем, что следует за ним или предшествует ему»54 . Хоффман следует практически по тем же пунктам, что и Рэйн, но оценивает их в пользу поэта. Так, изобилие американизмов (приводятся целые списки слов и выражений), как полагает рецензент, — наилучший способ самовыражения: британский вариант звучал бы безжизненно и вяло, не сочетаясь с «демократичной живостью, здравомыслием и грубоватостью», присущими поэзии Бродского. Высмеиваемое Рэйном пристрастие Бродского к разнообразным вводным конструкциям составляет, по Хоффману, изрядную часть обаяния речи поэта; отклонения от языковой нормы (слишком очевидные, чтобы их отрицать) рассматриваются как «анархический дар» английскому языку. Строки, которые Рэйн интерпретировал бы как синтаксическую неуклюжесть, Хоффман воспринимает как «лингвистическую утонченность»: «...упорный отказ первого предложения от главного глагола посредством задыхающейся серии адвербиальных — или адъективных? — словосочетаний; емкое второе предложение, также лишенное глагола; ненавязчивое “гудит” в третьем» (впрочем, даже при столь доброжелательном настрое рецензент ниже вынужден был признать, что следующее восьмистишие, содержащее пять риторических вопросов, сбивает его с толку). Склонность Бродского к афористическим высказываниям, масштабным обобщениям, которую Рэйн интерпретирует как стремление работать на публику, Хоффман считает «сильной стороной» поэта.
Содержащая только одну прямую ссылку на К. Рэйна и К. Рида статья М. Хоффмана фактически является развернутым им ответом — вплоть до почти буквальных совпадений, но со сменой знака c минуса на плюс. Так, например, даже слово «translationese» — «переводческий язык», служащее для критиков сниженным определением «русифицированного» английского Бродского, здесь употребляется в комплиментарном контексте: «Бродский может писать на самом явном и умышленно провокативном переводческом диалекте, и тем не менее читатель продолжает относиться к тексту как к оригиналу, созданному абсолютно сознательно с пристальным вниманием к каждой детали». Рецензент убежден, что поэт такого масштаба, как Бродский, имеет право «скрещивать» два языка, «играть» с английским по правилам русского, даже если язык, на котором он пишет, сопротивляется ему.
Рецензия М. Хоффмана — работа добросовестного и беспристрастного филолога, но, стремясь защитить Бродского от чересчур резкой критики, рецензент готов оценивать в пользу поэта даже те свойства его стиха, которые выделены другими критиками как ярко выраженные недостатки. Не имея возможности опровергнуть упрек или отвести его, М. Хоффман готов едва ли не отрицать очевидное (так, например, замечание: «каждая из последовательно опубликованных книг — A Part of Speech (1980), To Urania (1988) and So Forth (1996) — имеет свои ярко выраженные языковые особенности; стиль меняется от относительно гладкого к довольно грубому, но я никогда не считал движущей силой этого процесса все большую вовлеченность автора в процесс перевода» — звучит несколько странно, поскольку стилистику первого сборника в изрядной степени определяли переводчики, а последнего — об этом подробнее будет сказано ниже — исключительно сам автор, и невозможно не связывать изменения лингвистического характера книг с этим переходом).
Полемика в британской печати продолжается после выхода в свет сборника «Collected Poems in English». Лаклан Маккиннон снабжает свою рецензию подзаголовком «Достоинства английского стиха Бродского»55 . Он отмечает, что в англоязычной читательской среде бытуют два полярных мнения об «английском Бродском»: для одних он едва ли не величайший англо-американский поэт послевоенных лет, для других — человек, не обладающий достаточной компетенцией для творчества на иных языках, кроме родного. Сам критик тяготеет скорее к первой точке зрения: «Бродский совершил то, что редко кому удавалось, — его считают и русским, и англофонным поэтом первого ряда»56 . Лаклан Маккиннон открыто выступает против Крэга Рэйна, обвиняя того в филологической некомпетентности. Он готов согласиться, что в отдельных строках автопереводов наблюдаются грамматические недочеты, — сам он отмечает неточное употребление артиклей в написанном по-английски стихотворении «To the President-elect», — но прочие замечания решительно отметает. Рецензент убежден, что критика, высказанная Рэйном в адрес «английского Бродского», вызвана не недочетами текстов, а предвзятостью и методологической несостоятельностью подхода. Критик причисляет Бродского к кругу писателей-билингвов, чей английский не приобрел аутентичную гладкость, вступив в некую связь с их родным языком. Это тем не менее не значит, что они звучат как иностранцы: просто благодаря отстраненной, скептической позиции по отношению к английскому языку они более открыты лингвистическому эксперименту, нежели носители языка. Бродскому удалось создать собственный идиолект английского, найти свой уникальный голос. Маккиннон уверен, что опыт Бродского еще будет осмыслен современными англоязычными поэтами, ибо «он все же, видимо, чрезвычайно раскрепостил английский стих, вернув ему интеллектуальные устремления и напомнив нам исключительное значение Одена»57 .
В следующем номере «Times Literary Supplement» (2001. 29 июня) Крэг Рэйн откликается на статью Л. Маккиннона. Он наотрез отказывается признать правомерность соотнесения лингвистических экспериментов Бродского со специфической стилистикой позднего Одена. Оден, творивший на родном языке, осознанно форсировал языковую норму, в то время как английский Бродского попросту хромает! Чтобы придать основательность своему мнению, Рэйн цитирует несколько негативных рецензий на сборники Бродского и в их числе статьи Роберта Хасса и Шеймуса Хини, где английский Бродского характеризовался как «неуклюжий и перекошенный»: он добавляет к этим эпитетам такие, как «неидиоматичный», «хромой», «шаткий, изломанный», «неизящный, грубый». Он вновь утверждает, что Бродский в ряде случаев идет на смысловые и стилистические несообразности ради сохранения рифмовки и метрики стихотворений, искажает устойчивые обороты, неточно употребляет слова. И лишь некомпетентность в вопросах просодии, по мнению Рэйна, не позволяет Л. Маккиннону разглядеть в восхищенно цитируемом им «To the President-elect» «посредственную халтуру».
Реплика К. Рэйна спровоцировала два отзыва — Л. Маккиннона и Д. Уэйссборта, — напечатанных в очередном номере TLS (2001. 6 июля). Маккиннон, вступая в очевидное единоборство с Рэйном, доказывает свою стиховедческую компетенцию, скрупулезно обосновывая свой взгляд на метроритмическую структуру и образный строй стихотворения «To the President-elect». Он приводит словарные статьи, доказывающие, что случаи словоупотребления, рассмотренные Рэйном как ошибки Бродского, являются языковой нормой, хотя и несколько устаревшей, а также доказывает, что смысловой сдвиг, допущенный Бродским в идиоматическом выражении, сделан поэтом намеренно и выполняет определенную художественную задачу.
Реплика Д. Уэйссборта более развернута. Поэт и переводчик Бродского, он признает, что такие сторонники «английского Бродского», как Л. Маккиннон и М. Хоффман остаются в меньшинстве. Однако он готов поддержать их. Уэйссборт защищает право Бродского на лингвистическое новаторство перед защитниками «правильного английского». Он цитирует мнение поэта Петера Вьерека (Peter Viereck), лауреата Пулитцеровской премии, признавшего, что «технически “неправильные” переводы Иосифа» дали ему «лучшее, новое понимание родного языка». По мнению Уэйссборта, эксперименты Бродского опередили свое время, а такие критики поэта, как К. Рэйн и Д. Дэви, не разглядели этого, ибо были ослеплены негодованием.
Последние реплики в этой полемике — К. Рэйна (TLS, 2001. 13 июля) и Л. Маккиннона (TLS, 2001. 20 июля) ничего существенно нового не добавляют и все более переходят с первоначального предмета обсуждения на личности и профессиональные навыки оппонентов. К. Рэйн продолжает утверждать, что все это «дело слуха» и он устраняется от дальнейшей дискуссии с теми, кто готов довольствоваться шершавым звучанием стихов Бродского и словоупотребительной нормой XVI века. Маккиннон в свою очередь упрекает Рэйна в уходе от разговора о языковом новаторстве Бродского и его роли в развитии английской просодии. Каждый, в сущности, остается при своем мнении. Гораздо интереснее другой факт: в TLS (2001. 20 июля) публикуется также короткая — всего 10 строк узкой колонки — реплика Алана Такера (Alan Tucker) по поводу упрека в неточном употребления артикля, который высказал в своей рецензии Л. Маккиннон, анализируя стихотворение «To the President-elect». Такер отклоняет даже столь мягкую критику, считая, что употребление артикля здесь активизирует интертекст и является «гениальным штрихом». Таким образом, одно и то же произведение в разной интерпретации характеризуется и как «посредственная халтура», и как творение гения.
В американской печати последние сборники Бродского вызвали довольно единодушную реакцию. Рецензируя сборник «So Forth», Джон Бэйли с восхищением говорит о Бродском как о человеке, сумевшем выдвинуться из эмигрантской среды в первый ряд американской интеллектуальной элиты и научившемся пользоваться чужим языком как средством самовыражения. Однако с самого начала он утверждает, что Бродский является подлинно великим поэтом только на родном языке: «Он создавал для себя особую творческую манеру на английском языке и искал свой голос в американской поэзии, но время не склонно чтить их истинную поэтическую состоятельность»58 . Муза отвергает тех, кто лишь пытался приблизиться к ней, но не достиг безупречности. Бродский стремился войти в англоязычную поэзию, опираясь на созвучность своего голоса оденовскому, но ученические опусы не могут подменить собственного творчества. По мнению критика, Бродский так и не приобрел ни слуха, ни инстинкта, позволившего бы ему свободно пользоваться английской просодией и идиоматикой. Изысканные стиховые конструкции Бродского совсем не впечатляют англоговорящего читателя. Цитируя отдельные стихотворения, Бэйли отмечает их «постыдную неуклюжесть», «издевательски-наивный дух и ритм, получившиеся ничуть не лучше образов». Однако он обращает внимание и на отдельные удачи сборника — некоторые стихотворения, написанные по-английски. Статью в целом Бэйли заканчивает на оптимистической ноте.
Свен Биркертс в статье «Подрывник стиха»59 , освещающей выход в свет «Collected Poems in English», констатирует факт: репутация Бродского за годы, прошедшие после смерти поэта, пострадала, по крайней мере в Америке. Это связано и с прекращением общественной жизни поэта, привлекавшей к нему всеобщее внимание, и с тем, что последний сборник поэта «So Forth» «уже не имел силы и изобретательности, присущей книге “A Part of Speech”» (1977), сделавшей ему имя. Обращаясь к переводам из первых прижизненных сборников Бродского, Биркертс отмечает, что они демонстрируют «беспримерную обнаженную чуткость, преломляющуюся во всех направлениях с имажистской изобретательностью и часто с мрачно-комической живостью». Рецензент анализирует ряд стихотворений (два из трех — из «A Part of Speech», в неавторизованном переводе Э. Хекта), восхищаясь способностью Бродского остраненно взглянуть на привычные вещи и явления, видя в этом подлинное проявление гения поэта. Однако он отмечает, что многие стихотворения сборника «не дотягивают» до уровня цитируемых: «Воодушевленный примером Одена в последние годы, он [Бродский] все далее следовал за своим учителем по пути нескладного стихотворства, чрезмерно наслаждаясь шутовскими эффектами, которые создаются, когда формальные ограничения накладывают узду на нелепые выкрутасы языка», — в качестве иллюстрации здесь приведен автоперевод из сборника «So Forth». И тем не менее Свен Биркертс убежден, что «лязганье ряда поздних стихотворений не может затмить потрясающей глубины основной части текстов, вошедших в сборник».
Рецензия Чарльза Симика в целом созвучна статье Свена Биркертса60 . Он жестко критикует версификацию Бродского, который так и не заметил, что англофонная поэзия давно перешла на свободный стих и в большинстве своем американские поэты отказались от рифмы и размера. Русский поэт, как полагает критик, избрал себе неверные образцы для поэтического творчества на английском языке: пример приверженца строгих стиховых конструкций Роберта Фроста отнюдь не показателен, поэзия Харди и Теннисона, живи они в наше время в Бруклине или Айове, звучала бы смехотворно, классическая творческая манера выражения, к которой постоянно апеллирует Бродский, давно устарела. Бродский же продолжает навязывать английскому языку формы, от которых он давно отвык. «Образы и фигуры речи, — пишет Ч. Симик, — можно перевести, можно найти и эквиваленты идиом, но звук родного языка, его музыка и то, что она пробуждает в душе носителя языка, не могут быть перенесены из одного языка в другой»61 . Тем не менее Чарльзу Симику нравятся переводы из ранних сборников, выполненные англофонными поэтами-переводчиками: именно они, по мнению критика, сделали имя «английскому Бродскому». Собственные же переводы поэта разочаровывают критика, знакомого с оригиналами. Анализируя в качестве примера автоперевод стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», Симик отмечает многочисленные добавления в образной структуре и характеризует большинство из них как неидиоматичные и неуклюжие: «Эти бессмысленные добавления служат для сохранения метра и рифмы, но они уничтожают элегантную лапидарность и эмоциональное воздействие русского стихотворения»62 . Брод-ский — подлинный мастер на родном языке, но он нередко оказывается глух к нюансам английского. Даже в прекрасном, по мнению рецензента, стихотворении «Taps» (в автопереводе «Меня упрекали во всем, окромя погоды…») встречаются неудачный выбор слов и натянутые рифмы. Рассуждая о чертах художественного мира Бродского, Симик обращается к эссе поэта и переводам, выполненным другими авторами. Он полагает, что, несмотря на серьезные недостатки переводов, в собрании сочинений «английского Бродского» немало настоящей поэзии.
* * *
Велик разброс мнений при оценке англоязычного Бродского. Трудно сказать, какая из точек зрения станет превалировать в будущем. Возможно, следующее поколение англоязычных читателей, которому английская просодия «после Бродского» достанется уже как данность, а перипетии судьбы поэта — как устоявшийся культурный миф, будет воспринимать поэзию Joseph’a Brodsky как вполне органичное явление своей отечественной литературы.
Во всяком случае, Иосифу Бродскому в неавторизованном английском переводе будет сложно конкурировать на издательском рынке с Joseph’ом Brodsky и «переводами, рекомендованными Обществом поэтических изданий». Авторская личность Joseph’a Brodsky приобретает самостоятельную ценность и едва ли не заслоняет собой русское alter ego. Так, в «Энциклопедии американской поэзии»63 он рассматривается в ряду «anglophone writers» — «англоязычных поэтов», а в популярном словаре-справочнике «International Authors and Writers Who’s Who»64, выпущенном в 2000 году Международным биографическим Центром в Кембридже, происходит любопытная контаминация: Бродский появляется как «Brodsky, Joseph (Alexandrovich)», «выдающийся американский поэт русского происхождения».
Сам Бродский склонен был к строгому разделению двух своих биографических мифов и связанных с ними авторских ипостасей. Вспомним, что он с самого начала не принял транслитерацию своего имени как Iosif в англо-американской печати и в то же время даже в частной дружеской корреспонденции, столь охотно цитируемой мемуаристами, как правило, не подписывался как «Джозеф»65 .
Косвенным подтверждением тому, что Бродский считал свою «русскую» жизнь вполне завершенной моментом изгнания, служит тот факт, что он наотрез отказался побывать в постперестроечной России, несмотря на многократные предложения со стороны властей и частных лиц: туристический визит на родину не вписался бы в русский миф о поэте-изгнаннике (ср. ахматовское «Он и после смерти не вернулся в старую Флоренцию свою. Этот, уходя, не оглянулся…»), а намерения репатриироваться Бродский не имел.
В то же время Бродский оберегал свою американскую биографию от вторжения советского прошлого: раздражался, когда речь заходила о судебном процессе над ним, не любил рассказывать в интервью о лишениях, перенесенных им в советских психушках и тюрьмах, настойчиво уходя от имиджа «жертвы режима» к имиджу «self-made man», хотя тем самым он навлекал на себя нарекания друзей, ожидающих от него выступлений в поддержку советских диссидентов.
Эссеистом, несомненно, является англоязычный Joseph Brodsky (из 60 изданных им в разное время прозаических текстов только 16 изначально написаны на русском языке), поэзия же по преимуществу — сфера Иосифа Бродского (46 стихотворений, написанных по-английски, теряются на фоне 540 русских)66. Отметим также, что, выступая в роли университетского преподавателя русской литературы, Бродский, по свидетельству его бывших студентов, принципиально говорил только по-английски. Судя по всему, с момента отъезда за рубеж русское egо становится для Бродского сокровенным, потаенным. Создав Joseph’a Brodsky, Бродский, как Джекил Хайда, посылает его туда, где самому ему быть нельзя, не потеряв своей мифологической и культурной самоидентификации. Brodsky стал его «общественным имиджем»: порожденный американской языковой и культурной средой, он, по мысли Бродского, естественным образом в эту среду вписался и тем самым уберег от ассимиляции в переводах его русское поэтическое «я».
Joseph Brodsky — идеальный переводчик для Иосифа Бродского: он точно воспроизводит стиховую структуру оригинала и сознательно отказывается от гладкости стиха, заставляя английский язык имитировать поэтическую интонацию русского, пробуждая в читателе стремление добраться до исходного текста.
Однако здесь и таится опасность, которой сам Бродский, видимо, не предвидел: его подлинное «я» будет окончательно закрыто для англо-американского читателя Joseph’ом Brodsky — смелым реформатором языковой нормы, блестящим экспериментатором в области стиха, но поэтом, отнюдь не равновеликим русскому оригиналу — Иосифу Бродскому.
г. Нижний Новгород
1 The New York Review of Books. 1972. 4 мая.
2 «Благословение» Одена – как и дружба Ахматовой в русский период – играет огромную, но неоднозначную роль в восприятии Бродского англоязычной аудиторией. С одной стороны, поэт становится «наследником» прославленного и уважаемого им самим мэтра, но с другой стороны, вынужден доказывать свою независимость от некоего «загробного покровительства», навязываемого ему не вполне доброжелательными – или не в меру восторженными – рецензентами (так, например, статья по поводу присуждения Бродскому Нобелевской премии в Independent за 23.10.87, вполне комплиментарная по сути, получила заголовок «Writer in the Shadow of W.H. Auden» — «Писатель в тени У.Х. Одена»).
3 The New York Review of Books. 1974. 19 сентября; The New York Review of Books. 1974. 23 января.
4 The New York Review of Books. 1977. 17 февраля.
5 The New York Review of Books. 1977. 19 июня.
6 The New York Review of Books. 1981. 5 марта.
7 The New York Review of Books. 1983. 10 ноября.
8 The New York Review of Books. 1986. 27 февраля.
9 Times Literary Supplement. 1987. 30 июня.
10 Полухина В. Вступление к главе «В Англии» // Иосиф Брод-ский: труды и дни. М.: Независимая газета, 1998. С. 85.
11 Волков С. Диалоги с И. Бродским. М.: Независимая газета, 1998. С. 170 — 171.
12 Интервью с И. Бродским Свена Биркертса // Звезда. 1997. № 1. С. 96.
13 Там же.
14 Joseph Brodsky: Selected Poems/Translated and introduced by George L. Kline, with a Foreword by W.H. Auden. Penguin Books, 1973; A Part of Speech. Oxford University Press, 1980.; To Urania. Penguin Books, 1988; So Forth. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1996.
15 Poetry. 1978. Март. P. 311.
16 В этом же сборнике опубликована «Elegy: for Robert Lowell» («Элегия: Роберту Лоуэллу») — стихотворение, которое в критической литературе рассматривается как первое изначально написанное Бродским по-английски. Тем не менее хронологически первым английским стихотворением Бродского является «Elegy to W.H. Auden». Опубликованное в New York Review of Books за 12 декабря 1974 года, в номере памяти У. Х. Одена. Впоследствии оно не вошло ни в один сборник Бродского, включая «Collected Poems in English» (2002), куда включены даже детские стихи поэта. По всей видимости, Бродский разочаровался в результате своего первого опыта поэзии на английском языке.
17 Интересно отметить, что два неозаглавленных перевода в «A Part of Speech» также принадлежат перу Д. Клайна.
18 Только одна строка в оглавлении представляет собой предложение, взятое в кавычки, но оно не является первой строкой, а вынесено в заголовок стихотворения. Выделение этого текста среди всех остальных явно предусмотрено автором: в примечании оно представлено как перевод древнего шумерского памятника.
19 О том, как работают заголовки в сборнике «So Forth», подробнее см.: Волгина А. Функция заглавия в автопереводах Иосифа Бродского // Поэтика Иосифа Бродского. Сб. научн. трудов. Тверь: Тверской государственный университет, 2003.
20 Collected Poems in English. P. XIII. Заключение этого абзаца вызывает в памяти вступительную заметку Бродского из «A Part of Speech», уже процитированную на обложке («Я вдвойне благодарен переводчикам за их снисходительность»).
21 Среди немногих исключений перевод цикла «Часть речи», выполненный Д. Уэйссбортом и напечатанный в альманахе «Poetry» (1978. March; в сборник «A Part of Speech» вошли 15 из 20 стихотворений, кардинально переработанных автором и обозначенных как автопереводы без упоминания первого переводчика). В сборнике статей «Brodsky’s Poetics and Aesthetics» также появляется изначальный перевод «Двадцати сонетов к Марии Стюарт», выполненный П. Франсом, а впоследствии вошедший в «To Urania» в авторской редакции как совместная работа автора и переводчика; однако здесь П. Франс специально оговаривает, что этот текст печатается с разрешения Бродского «как часть комментария к его произведению».
22 Своеобразными антиподами рецензентов-славистов являются те, кто, объявляя о своем незнании русского языка, тем не менее пускаются в рассуждения о месте Бродского в русской поэзии. Возможно, фигура Joseph’a Brodsky, поглощающая внимание рецензентов, отчасти как раз и была призвана защитить автора оригинальных текстов от суждений в стиле «Я не знаю русского языка, но думаю…», которые подозрительно, хотя и парадоксально, напоминают те, что Бродский слышал на своем процессе («Я этих стихов не читал, но скажу…»).
23 The New York Review of Books. 1973. 5 апреля.
24 The New York Times Book Review. 1973. 30 декабря.
25 Simple yea-saying // Times Literary Supplement. 1972. 15 марта.
26 Books of the Year // The Observer Review. 1980. 7 декабря.
27 Mahon D. Long Goodbye // London Review of Books. 1980. 20 ноября — 4 декабря.
28 Bayley J. Sophisticated Razzmatazz // Parnassus. 1981. Весна-лето. P. 88.
29 Bayley J. Sophisticated Razzmatazz. P. 86, 87.
30 Porter P. Satire with a heart // The Observer. 1980. 14 декабря.
31 Porter P. Lost properties // The Observer. 1988. 11 декабря.
32 Hass R. Lost in Translation. Цит. поизд.: Hass R. Twentieth Century Pleasures: Prose on Poetry. N. Y.: The Ecco Press, 1984. P. 134 — 241.
33 Hass R. Lost in Translation. Цит. поизд.: Hass R. Twentieth Century Pleasures: Prose on Poetry. N. Y.: The Ecco Press, 1984. Р. 136.
34 Brown Р. The Best Russian Poetry Written Today // The New York Times Book Review. 1980. 7 сентября.
35 Ibid. Р. 18.
36 Walcott D. Magic Industry // The New York Review of Books. 1988. 24 ноября.
37 Ibid.
38 Ibid.
39 Walcott D. Magic Industry. Р. 37.
40 Ibid.
41 Szirtes G. The Muse of Absolute Zero // Poetry Review. 1988—1989. № 4. V. 78. P. 40 — 42.
42 Szirtes G. The Muse of Absolute Zero // Poetry Review. 1988—1989. № 4. V. 78. Р. 41.
43 Ibid.
44 Steiner G. Poetry from the shadow-zone // The Sunday Times. 1988. 11 сентября.
45 Bayley J. Not Afraid of Sounding Major // The New York Times Book Review. 1988. № 27.
46 Bayley J. Not Afraid of Sounding Major // The New York Times Book Review. 1988. № 27.
47 Porter P. Lost properties // The Observer. 1988. 11 декабря.
48 Эта рецензия — последний отзыв на книгу Бродского, который удалось найти в газете «The Observer». Можно предположить, что негативное мнение Питера Портера серьезно повлияло на позицию этого весьма популярного издания по отношению к Бродскому.
49 Davie D. The saturated line // Times Literary Supplement. 1988. 23—29 декабря.
50 Reid Ch. Great American Disaster // London Review of Books. 1988. 8 декабря.
51 Porter P. Op. cit.
52 Wiggins M. From beyond the grave // The Times. 1996. 21 ноября.
53 Raine C. A Reputation Subject to Inflation // Financial Times. 1996.16— 17 ноября.
54 Hoffmann M. On absenting oneself // Times Literary Supplement. 1997. 10 января.
55 Makkinnon L. A Break from Dullness. The virtues of Brodsky’s English verse // Times Literary Supplement. 2001. 22 июня.
56 Ibid. P. 10.
Оригинал статьи находится в журнале «Вопросы литературы» (№ 3, 2005).
Источник: http://noblit.ru/content/view/93/33/
Осень.
Компьютерная графика - А.Н.Кривомазов, январь 2010 г.
Биография Бродского, часть 1 Биография Бродского, часть 2 Биография Бродского, часть 3
Cтраницы в Интернете о поэтах и их творчестве, созданные этим разработчиком: [ Музей Иосифа Бродского в Интернете ] [ Музей Арсения Тарковского в Интернете ] [ Музей Вильгельма Левика в Интернете ] [ Музей Аркадия Штейнберга в Интернете ] [ Поэт и переводчик Семен Липкин ] [ Поэт и переводчик Александр Ревич ] [ Поэт Григорий Корин ] [ Поэт Владимир Мощенко ] [ Поэтесса Любовь Якушева ]
Требуйте в библиотеках наши деловые, компьютерные и литературные журналы: [ СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ] [ МАРКЕТИНГ УСПЕХА ] [ ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА ] [ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ ] [ НОУ-ХАУ БИЗНЕСА ] [ БИЗНЕС-КОМАНДА И ЕЕ ЛИДЕР ] [ КОМПЬЮТЕРЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ] [ КОМПЬЮТЕРНАЯ ХРОНИКА ] [ ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ] [ БИЗНЕС.ПРИБЫЛЬ.ПРАВО ] [ БЫСТРАЯ ПРОДАЖА ] [ РЫНОК.ФИНАНСЫ.КООПЕРАЦИЯ ] [ СЕКРЕТНЫЕ РЕЦЕПТЫ МИЛЛИОНЕРОВ ] [ УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕМ ] [ АНТОЛОГИЯ МИРОВОЙ ПОЭЗИИ ]
ООО "Интерсоциоинформ"