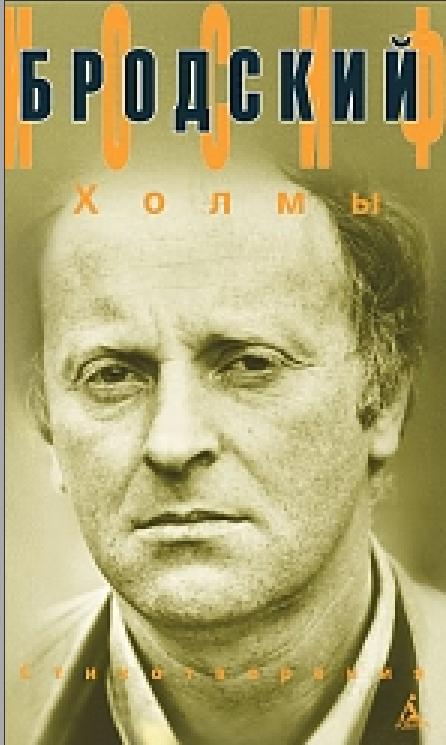Классические звенья современности
Новый литературный проект «Алматинские чтения», учрежденный журналом «Книголюб» при финансовой поддержке казахстанских меценатов, открыл поэт-шестидесятник, прозаик, документалист, друг Иосифа Бродского и поэтический наследник Анны Ахматовой Евгений Рейн

Фото - Азиз Мамиров
В век капитализации и рекламы, массовой культуры и китча, стремительно обновляющейся информации и экранного сознания искусство изящной словесности, поэтическое слово, теряет свое универсальное значение, что создает ощущение его ухода в прошлое. По мнению критиков, публицистическая и сатирическая функции, которые некогда выполняла поэзия, перешли к журналистике, а лирическая – к эстраде,
Но поэзия не исчезла, а, скорее, обрела свою нишу и своего адресата. Подтверждение тому обретение «дома» в интернете. Поэзия
– Сейчас большое место в культуре, в информационных потоках занимает кинематограф. Вы имеете к нему отношение, писали сценарии. Связаны ли поэзия и кинематограф?
Евгений Рейн: Я думаю, что поэзия очень близка к кинематографу. Может быть, она даже ближе, чем проза или другие литературные жанры. Особенно современная поэзия, которая обладает приемами кинематографа: монтажом, крупным планом. Я занимался в основном документальным кино. Между поэтическими приемами, фрагментами и кинематографом очень много близкого.
Бахыт Кенжеев: Я думаю, что Евгений Борисович очень хорошо описал основы своей поэзии.
– Какую роль сейчас играет живой контакт с читателем, чтение стихов вслух? Или
Р.: Поэзия начиналась с живого слова: поэты, акыны… Тут есть индивидуальные черты и различия. Для меня публичное чтение довольно мучительно. Я не знаю, в чем тут дело. (Обращается к Кенжееву): – Ты любишь читать стихи?
К.: Люблю, но очень устаю. Это тяжелая работа. С другой стороны, это необходимо потому, что видишь живые лица. А это приятно. Это не анонимный читатель. При этом за полчаса поэтического чтения устаешь больше, чем за восьмичасовой рабочий день.
– Могут ли поэты собирать сейчас масштабную аудиторию, как
Р.: Стадион излишняя мера. Я предпочитаю камерность, когда существует личная и обратная связь между поэтом и его слушателем.
К.: Позвольте напомнить хорошо известные поэтические строки.
Так иногда толпы ленивый ум
Из усыпления выводит
Глас, пошлый глас, вещатель общих дум,
И звучный отзыв в ней находит,
Но не найдет отзыва тот глагол,
Что страстное земное перешел.
Это Баратынский. Так что, какие стадионы?
– О чем в истории развития поэзии может свидетельствовать такое явление, как конкретная, визуальная поэзия?
К.: О жульничестве.
Р.: Зарекаться ни от чего не надо. Но эти приемы целиком лежат вне сферы моего разумения.
К.: Жулики, ну, чего там. Впрочем, нет, Апполинер писал такие стихи. Поиграл немного.
– Если говорить о языковых процессах. Об изменениях в языке. Вы ощущаете разницу современного и поэтического языка вашего поколения? Откуда поколенческое деление, к которому обращается периодически и критика, и происходит самоидентификация у поэтов.
Р.: Язык, безусловно, меняется и захватывает
К.: Я считаю, что нет смысла специально вводить в поэзию слово «стакан» или «интернет». Поэзия Евгения Борисовича лучше всего иллюстрирует эту точку зрения. Он как раз предметный поэт. Предмет должен быть обжит сначала культурой, а потом эмоциями и чувствами человека, который упоминает его в стихах. Если про мобилу сложат стихи, и она будет обжита – я это только приветствую. Как это у Тарковского: «И молчит мой черный телефон…». Это в стихах о несчастной любви. Хотя других телефонов тогда и не было. Когда Баратынский захотел стать великим поэтом (и стал им), он нарочно писал стихи на языке тридцатилетней давности.
Р.: Но не на языке Сумарокова.
К.: Но на языке Державина точно. Его даже в этом упрекали. Так что тут нет прямого пути. Я очень люблю архаические, старые слова. Они уже обжиты.
Р.: Да, обжиты, у них есть
К.: Баратынский писал:
И ты летаешь над твореньем,
Согласье прям его лия.
«Прям его лия» – это про смерть, которая решает все споры и приносит на землю мир и покой.
Р.: Или: «Смерть дщерью тьмы не назову я».
– А если говорить о языке не только как о форме, но и о содержании, как он отражает современность? Меняется ли поэтическая тематика?
К.: Разве новое поколение умирает
Р.: Я думаю, что основа поэзии неизменна. Она сводится
К.: Это понимают не сразу. Когда человеку двадцать лет, он пишет
– Есть короткие и длинные стихи. Какое значение вы придаете объему в стихосложении?
Р.: Утверждение «нет ничего такого, чего нельзя было бы сказать в двадцати строках» правильное. В девятнадцатом веке и гораздо ранее появляются задачи, связанные с продлением лирического волнения. Тут важна пропорция – соотношение между содержанием, тем, что ты хочешь сказать, и самим объемом.
К.: Евгений Рейн занимает в русской поэзии уникальное место. Я считаю, что его самый сильный жанр – длинные стихотворения, маленькие поэмы строк на триста. Его дарование тут особенно
– В предыстории к сборнику Бродский давал вам советы как писать далее. Он сказал, что вы побывали Овидием, Катуллом, а теперь вам надо стать Вергилием и советовал, как составлять сборники. Как вы отнеслись к этим советам? Что вам помогло, а что помешало?
Р.: Бродский был склонен к античным экивокам. Главным образом связанным с римской поэзией. Например, «Письмо к римскому другу». Объяснить буквально, что он имел в виду, невозможно. Может быть, это связано с тем, что Катулл – представитель чистого лирического напора, а Вергилий – излагатель хроник.
– В начале века существовала традиция московской и петербуржской, или ленинградской, поэтических школ: Ахматова – Блок и Цветаева – Пастернак. Сейчас ощущается подобная тенденция?
Р.: Сейчас уже много размыто. Но когда я только начинал писать, был молодым человеком, еще были такие представления и поэтические факты. Петербург опирался на традиции акмеизма, Мандельштама, Гумилева, Ахматову. А Цветаева и Пастернак по поэтике связаны с футуристическими обстоятельствами. Вот на этом и было основано разделение поэтик. Тут сыграла роль и большая камерность Петербурга, и большая открытость, расхристанность Москвы.
К.: Для меня вполне определенно, что Кушнер – питерский, а Чухонцев – московский поэт. Да и слова мы произносим
– Тот же Кушнер окультурен и у него много реминисценций (на чем и держится поэзия конца ХХ – начала ХХI веков). Как вы оцениваете присутствие чужого слова и чужого сознания в поэзии?
Р.: Совершенно закономерно, что культура является естественной частью общего пейзажа, как природа, как переживания, как психология. У Кушнера это подано наиболее естественным тонким образом.
К.: Как говорил Осип Мандельштам: «цитата есть цикада, неумолкаемость ей свойственна». Цитата просто очень обогащенное слово. А почти любое слово сегодня – цитата. Есть слова, один раз использованные, и они полностью аннулируются. Такую работу провел в русской поэзии Борис Пастернак. Экзотические слова, употребленные один раз Пастернаком, употреблять уже невозможно, читатель их помнит.
Р.: И ритмика приедается. Она тоже окончательно была закреплена за Пастернаком.
– Вы классический поэт или современный?
Р.: Всего лишь одно из звеньев, не более того.
Источник: http://www.expert.ru/printissues/kazakhstan/2006/06/literaturniy_proekt/

Это тот самый Евгений Рейн, друг и учитель Бродского, с которым вместе они когда-то посещали дом Ахматовой.
Фотка сделана мной своим телефоном в прошлом году.:)
На заднем плане поэт Бахыт Кенжеев.
Источник: http://www.zizou.ru/forum/31-456-2
Шеймас Хини: «Бродский напоминал дикое животное...»
 |
– Для меня это прежде всего соприкосновение с вашей культурой. С культурой, которую я всю жизнь связывал с именами Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама и Иосифа Бродского. Сегодня мне посчастливилось слышать их голоса (из Петербурга специально на презентацию книги привезли магнитофонные записи поэтов. – Прим. авт.), и я ими просто заражен. Это как болезнь. Высокая болезнь.
– А что для вас значат эти имена?
– Ваши поэты научили меня тому, как писатель может выжить в сегодняшнем мире. Нужно доверять своим чувствам, верить в то, что делаешь, и прислушиваться к себе. А если говорить о Бродском, то Иосиф был, как дерево – в лесу вы прислоняетесь к дереву и спиной чувствуете энергию, которая идет снизу вверх. Иосиф никогда не сомневался в том, что делал, и ко всему подступался решительно, словно вертолет, который взлетает без разгона: вжух – и готово.
– Это было первое впечатление о Бродском?
– Нет, когда мы увиделись первый раз, он напомнил мне дикое животное, немного сжавшееся и с очень жестким взглядом. Иосиф всегда относился к этому миру недоверчиво – и мне это нравилось.
– В книгу вошло ваше стихотворение памяти Бродского под названием «Audenesque» – блестяще переведенное Григорием Кружковым. Русский переводчик озаглавил его «Размером Одена», но понятнее это название, честно говоря, не стало.
– О, да! Когда Иосиф умер, журнал «Нью-йоркер» заказал мне текст о нем, прозаический, конечно. Я написал пару абзацев, и меня совершенно заклинило. А потом я вдруг услышал это «тум-тудум-тудум-тудум, тум-тудум-тудум-тудум». Этим размером Бродский написал стихи на смерть Элиота – отчасти потому, что любимый им У.Х.Оден таким же размером написал стихи на смерть Йейтса, – наверное, потому, что Йейтс часто использовал этот размер в своих стихах, хотя и получил его, вероятнее всего, от Блейка – помните: «Tiger, tiger, burning bright...». Я тогда бросил недописанные два абзаца прозы и сочинил это стихотворение.
– Вы участвовали в отборе стихотворений для «Школы пения»?
– Нет, не участвовал. Это дело целиком переводчиков. Их предпочтений. Каждый, наверное, включил те стихи, через которые меня воспринимает. В которых я выгляжу объемнее, портретнее что ли. Многие, я знаю, начали переводить меня лет пятнадцать еще назад. А для этого сборника просто собрали воедино сделанные переводы. Получилась на самом деле книга четырех авторов.
– А почему туда не вошло ваше знаменитое стихотворение «Святой Франциск и птицы»? Слишком религиозное?
– Да нет. Оно лирическое, метафизическое. Оно об ответственности того, кто своим делом выбирает слово. Вероятно, для «Школы пения» были важнее национальные, мифологические и политические мотивы моей поэзии. Все-таки в России эта книга у меня первая полная. И всё моё, естественно, могло в неё войти.
– А кто сегодня читает поэзию в Ирландии?
– Поэзию сегодня читают в Ирландии многие. Люди разного возраста, с разным доходом, из разных социальных слоев. Если стихотворение, например, напечатано в субботнем приложении к «Айриш Таймс», то будьте уверены: его прочтет несколько членов парламента, несколько юристов, несколько людей из «пьющего класса» в пабах и несколько ваших личных врагов, конечно. Есть поэты, чьи имена хорошо известны, многие из них – настоящие знаменитости. Вы можете разговаривать об их поэзии с таксистом – и он понимающе ухмыльнется. Мне повезло, что я в их числе.
В то же время, конечно, есть и поэты, которых знают недостаточно, хотя их стихи великолепны.
– Нобелевская премия как-то повлияла на вашу популярность?
– Не знаю... Мне кажется, что количество моих читателей как-то плавно росло с семидесятых, а Нобелевскую премию я получил в 1995-м. Но вот что я точно знаю – что перед Рождеством 95-го года, когда покупались подарки, моих книжек было куплено действительно больше, чем обычно.
– А вообще Нобель отражает реальное положение дел в литературе?
– Нет такого количества премий, чтобы их раздать всем, кто того заслуживает. Очень просто в любой стране составить список писателей, которые должны были бы получить Нобеля – и не получили. Да что там говорить: Джойс ее не получил, Набоков не получил!
Когда мне достался Нобель, я звонил своим друзьям – поэту Тэду Хьюзу и драматургу Брайану Фрилу – и извинялся: мол, это они ошиблись, наверное, не тому дали. Брайан Фрил ходил в тот же колледж, что и я и посол Шарки, так я сказал: они просто выбрали не того мальчика из Сент-Колона.
– Можно ли в Ирландии жить литературными заработками?
– Нет, разумеется, нельзя! Я всю жизнь то преподавал, то работал на радио – у меня и до сих пор своя радиопередача вместе с женой на ВВС. Может быть, только авторы романов-бестселлеров... Ну да, они могут. Но только романисты!
– Но вы ведь тоже автор бестселлера – и очень необычного: ваш перевод «Беовульфа» неправдоподобно хорошо продавался и в Англии, и в Америке.
– Ой, я не виноват! (Смеется.) Я и сам до сих пор не могу в это поверить. Видимо, пришло время эпосов.
– Г-н Хини, а почему вдруг «Беовульф»? Почему именно это произведение вы взялись переводить?
– Дело в том, что меня попросили об этом еще очень давно, в середине 1980-х, издатели Нортоновской антологии английской литературы (The Norton Anthology of English Literature). Но тогда дело застопорилось на первых ста стихах, и мне пришлось отложить перевод до лучших времен. Я даже пытался отказаться от этой работы, предлагал издательству отдать ее Тэду Хьюзу: он был такой серьезный, усидчивый и поэт был великолепный.
Ничего не трогалось с места до тех пор, пока я не нашел в древнем тексте ключ, золотое слово, которое стало связующим звеном, мостиком между двумя столь далекими культурами Средневековья и современности. Словом этим был глагол «страдать». Я вспомнил свое детство, прошедшее в Северной Ирландии, своего дядю Питера, – и древний эпос со всей меланхолией и торжественностью его языка зазвучал для меня голосом этого человека, глубоким и простым. Так я и смог справиться. И, конечно, сказалась любовь к англо-саксонской поэзии, развившаяся во мне еще в пору студенчества в Королевском университете Белфаста. Это тоже помогло невероятно.
– «Беовульф» сейчас дорогая книга? Широка ли аудитория, которая может себе позволить купить ее?
– Широка. И не только может, но и позволяет. Тиражи очень высокие – где-то за 80 000 в Америке. Это очень меня радует, надо вам сказать. «Беовульфа» выпустили в формате дешевых книг – в мягкой обложке, так, чтобы можно было брать его с собой в дорогу или еще куда-нибудь. Он стоит порядка 25 долларов. Средняя цена для художественной книги. Удивительно то, сколько людей заинтересовались моим переводом. Скольким то, что я делал почти двадцать лет, оказалось нужным. Естественно, издатели – а это ведь издательство, которое выпускает просто образовательную литературу для школ и университетов – подобного резонанса даже не ожидали. Ведь «Беовульф» стал Книгой года, получил Уитбрэдовскую премию. До меня этот эпос перелагали уже около шестидесяти раз.
– А есть ли вероятность того, что уже вашего «Беовульфа» переведут на русский в недалеком будущем?
– Кажется, у вас был замечательный перевод непосредственно с англо-саксонского. Тихомирова, если не изменяет память. Думаю, сейчас переводить мой перевод – сумасшествие. Нужно быть для этого действительно сумасшедшим. Я же работал как бы внутри языка, что-то менял, пускай и несильно. Мой перевод – это удаление от оригинала, отстранение. Нет, я не менял сюжет, не вставал на сторону какого-то одного героя, как Джон Гарднер в «Грендале». Но я подходил к процессу творчески. И смысл моего перевода невозможно передать средствами другого языка. Здесь английский имеет дело исключительно и только с английским. Такой узконациональный опыт. Технически перевести можно, но тогда у вас в руках будет результат двойного отстранения. Мне кажется, оригинальный эпос важнее все-таки.
– Вам пришлось, наверное, держать в голове множество древнеанглийских реалий, чтобы перевод получился адекватным.
– Да, работать с подобными текстами трудно. Меня постоянно консультировал Альфред Дэвид, специалист по культуре английского Средневековья. Он меня «усмирял», когда очень хотелось выйти за рамки текста и из переводчика превратиться в соавтора. «Беовульф» ведь еще и очень авторское произведение. Несмотря на то, что автора не имеет.
Источник: http://www.knigoboz.ru/news/news841.html
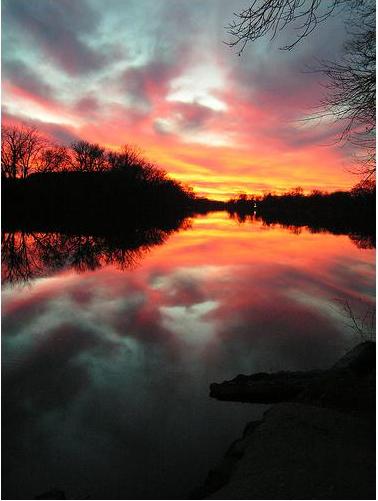
| Ранее |
| ООО "Интерсоциоинформ" |
|