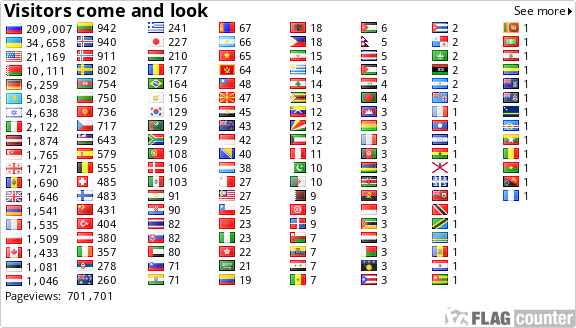Спорные страницы

Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной. Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глиной, Из него раздаваться будет лишь благодарность.
ИОСИФ БРОДСКИЙ
В Италии Роберто и Флер Калассо И я когда-то жил в городе, где на домах росли статуи, где по улицам с криком "растли! растли!" бегал местный философ, тряся бородкой, и бесконечная набережная делала жизнь короткой. Теперь там садится солнце, кариатид слепя. Но тех, кто любили меня больше самих себя, больше нету в живых. Утратив контакт с объектом преследования, собаки принюхиваются к объедкам, и в этом их сходство с памятью, с жизнью вещей. Закат; голоса в отдалении, выкрики типа "гад! уйди!" на чужом наречьи. Но нет ничего понятней. И лучшая в мире лагуна с золотой голубятней сильно сверкает, зрачок слезя. Человек, дожив до того момента, когда нельзя его больше любить, брезгуя плыть противу бешеного теченья, прячется в перспективу.
АНДРЕЙ БИТОВ
Великий механизм ума
Вы рождаетесь и умираете, не ведая того, что переживете. Люди договорились не выдавать главную тайну жизни. Возраст не сообщает возрасту о возрасте.
Когда Андрею Битову хотят отдать должное, говорят: "Очень умный писатель, гениальный стилист". Когда намерены уесть, называют скучным, вгоняющим в сон.
Что ж, Битов пишет мысль и мыслью: кому-то это в кайф, кого-то - в сон, сон разума.
Рожденный Петербургом
- Я знаю - с Ваших слов - что Вы родились дважды: один раз - 27 мая, второй - 26-го. В Ленинграде в 1937-м и в Москве - в 1994-м. Вообще-то, по утверждению философов, всякий человек рождается дважды: сначала - как природное существо, потом - в духе, в сознании. Вот об этом истинном рождении хотелось бы поговорить...
- К нам, родившимся в Ленинграде, культура приходила через Петербург, она породила, например, Бродского. Мы ведь все - Глеб Горбовский, Александр Кушнер, Сергей Вольф, Рид Грачев, Евгений Рейн, Сергей Довлатов воспитывались нашим городом. В Петербурге все воспитывает человека - и проспекты, и здания, и даже просто камни. И вода тоже. То есть ты просто ходишь по городу и получаешь литературное образование. Потому что в общении с петербургскими камнями ты сразу попадаешь в какой-то литературный контекст.
Что было в Питере - так это вкус. Позже его назвали снобизмом, и вкус этот, может быть, рожден стенами города. Кстати, Бродский употреблял слово "снобизм" вовсе не в негативном смысле - он считал снобизм формой отчаяния. Да, отчаяния. Сколько же в Питере погибло великолепных талантов - спились, уехали, покончили с собой; кого-то посадили, кто-то умер, кто-то попал в дурдом. Несправедливые, глухие и страшные судьбы.
Те же, кто уцелел, пробился, - обязаны этим и стенам города, и самим себе, сумевшим сохранить свое достоинство во взаимоотношениях с судьбой, чрезвычайно нервных для поэтов и писателей,. И, конечно, говоря о том времени, объединяющем людей общей судьбой, - наше поколение очень приблизительно называли хрущевским (начал я в литобъединении Горного института у поэта Глеба Семенова в 1956-м, а через три года перешел, уже как прозаик, в литобъединение Михаила Слонимского) нельзя не упомянуть стариков, которые с нами возились.Ну какие они были старики? Теперь я понимаю, что это были люди моего возраста сегодняшнего, даже помоложе: Лидия Яковлевна Гинзбург, Михаил Леонидович Слонимский, Вера Федоровна Панова, Наум Яковлевич Берковский.
Лидия Яковлевна и Алексей Алексеевич
- А кто из "стариков" был Вашим гуру? Ну, не гуру, но самым близким человеком?
- Лидия Яковлевна была ближайшим мне человеком. Она и умерла в один год с моей матерью в 90-м. Лидия Яковлевна относилась ко мне, скажем так, - индивидуально. У нее был свой взгляд на этот объект, то есть на меня. Она дала мне невероятно много в смысле формирования моего сознания.
Сейчас многие говорят о русском, дворянском. Им позволили говорить, а запретят - они перестанут. А я когда думаю о русском, о дворянстве, думаю о Лидии Яковлевне Гинзбург, приехавшей на Север из Одессы, историке литературы, ученом с мировым именем, писавшем прекрасную прозу. И о своем дядьке, родном мамином брате Алексее Алексеевиче Кедрове, лучшем кардиологе Ленинграда, а может, и всего Союза. И о своих родителях - отце Георгии Леонидовиче, архитекторе, и матери Ольге Алексеевне, юристе по образованию. От них, через них впервые доходили до меня понятия о чести и достоинстве.
Дядька мой был абсолютно лояльный господин. Когда в Москве умер Мясников, главный кардиолог страны, Алексея Алексеевича надумали назначить на эту должность. Разумеется, ему предложили вступить в партию. Но на это он пойти не мог. А когда институтское начальство представило его в Академию медицинских наук, в представлении - я его читал - было написано: "Высокомерен с начальством". С начальством высокомерен - грандиозно, да? Я достаточно независимый человек, но такой роскоши, как дядька - скажем, не подавать руки тем, кому не надо, - себе не позволял.Вообще-то формула "я не подам ему руки" мне не нравится. Я никого не сужу, сужу только судящих. Мы во всем виним тоталитарную систему, Сталина, а надо оборотиться на себя, осознать, что общего было у России с советской властью. Давайте все-таки считать, что этих времен не выдержал никто - все так или иначе уступили. Не уступили только те, кто погиб или оказался в тюрьме. Тысячи людей уцелели только потому, что умели закрывать глаза на то, что делалось вокруг, - и на своем собственном опыте воспитывали своих детей так, чтобы и их сберечь, и самим не погибнуть.
...Серьезная страна
- В последний день июля 80-го Вы вернулись в Питер из олимпийской Москвы, с похорон Высоцкого; из редакции "Авроры" пошли ко мне домой, помянули его, посмотрели по телеку финал Олимпиады по прыжкам в высоту (выяснили, что в пятнадцать лет Вы брали "ножницами" сто семьдесят пять)... Долго и хорошо сидели, заедая "Столичную" морошкой. И Вы тогда сказали, уж не помню в какой связи: "У нас ужасно серьезная страна".
- Я так сказал? Ну, что ж, это, наверное, правильно. Но можно сказать лучше: "Россия - это чудо. Россия - это задание".
- Чье задание - не спрашиваю, но оно, кажется, еще не выполнено?
- Оно еще не выполнено человечеством. Тайна России сохраняется. Павел Петрович, герой моего романа-странствия "Оглашенные", говорит так: "Если тюрьма есть попытка человечества заменить пространство временем, то Россия есть попытка Господа Бога заменить время пространством".
Феномен нашей страны - великая уникальная культура при отсутствии цивилизации: то есть у нас нет ответственности за себя, за свое дело, зато есть такая российская непереносимость конца работы. Пример того, как в одном человеке можно пройти и культуру, и цивилизацию, преподал нам Пушкин. А мы сами в себе внутри этот порог ответственности, который от культуры приводит к цивилизации, пройти не можем.Роман о террористе
В истории ошибок нет, весь наш кровавый опыт мы не выбрасываем, но и не лелеем - мы им обладаем, и тогда получается опыт как основа цивилизации. Он включает и убийство государством чуть ли не каждого третьего своего гражданина, и попытки людей сохранить свое достоинство, и сопротивление культуры, литературы - режиму.
Когда в 71-м я закончил "Пушкинский дом", тут же начал новый роман - "Азарт". Второе название у него было "Жизнь мертвого, или Нож в спине". Он должен был идти как роман о террористе, который в конце взрывает себя. В 76-м я заключил договор с "Совписом" на этот роман и получил аванс.
В тот же день случилось страшное событие: я сбил на машине человека, но не убил его и в тюрьму не сел.Это была невероятная проба судьбы: через три года после этого я попал в метропольскую историю (речь идет о выходе в свет бесцензурного литературного альманаха "Метрополь", что вызвало гнев властей: Битов был одним из его организаторов и участников. - А. С.), а за год до этого в Америке вышел "Пушкинский дом" (первое издание на родине увидело свет лишь в 1989 году. - А. С.). И тогда с меня стали драть этот аванс. Чтобы меня убрать как преподавателя Литинстиута, уволили всех профессоров-внештатников, чтобы не увольнять специально Битова. Все мои рукописи из издательств и редакций журналов восемь лет кряду возвращались: не нравились - и все. Это было задание Чека: жать по легальной линии.
Многие предпочли эмиграцию безумию, я же пытался бороться здесь и делал вид, что ничего страшного не происходило. Еще чуть-чуть, и меня бы выпихнули, но, наверное, я не успел перейти какую-то грань. Я подался в провинцию, болтался по республикам Кавказа, Средней Азии, нынешним независимым государствам, стремился как можно больше узнать и увидеть. Сейчас счастлив, что те годы потратил на эти поездки по стране, а не на знакомство с другим миром.Любовь к географии
- Ну, в другой мир, предположим, нас не пускали - это сейчас Вы раскатываете по земшару как президент Русского ПЕН-клуба, пишете (набираете на компьютере) свои тексты в Берлине, на шведском острове Готланд, преподаете в Нью-Йорке русскую литературу японским студентам и возвращаетесь домой - Москву и Петербург. А тогда, задолго до гонений, Вы мотались по Союзу - ныне на обломках империи перечитываю Ваши "Уроки Армении" и "Грузинский альбом", вспоминаю нашу сумасшедшую, еще со школьных лет, любовь к географии, к Пржевальскому, к путешествиям (читай: к свободе) и думаю, неужели никакой дружбы народов на самом деле не было?..
- Утрата дружбы народов - единственная категория, ностальгически переживающаяся нами после того, как не стало советской власти. На официальном уровне, как лозунг, мы это презирали, а практически дружба народов была. Заслуги советской власти тут нет - это заслуга замкнутого пространства и железного занавеса. Все, что я знаю про народы, про нации, я знаю через нашу империю, через контакты с людьми, через их потрясающую сердечность. Люди признавали друг в друге людей помимо национальностей.
- Отчаяние часто подступало к сердцу, когда Вы, как древний номад, кочевали по империи, лишенный уюта дома, постоянного заработка, надежды, что мрак безвременья когда-нибудь рассеется?..
- Отчаяние всегда в сердце.
- Значит, Вам близка мысль, что норма самочувствия - это отчаяние?
- Замечательная мысль. И чья же она?
- Это слова Блока.
- Блок - мне очень близкий человек.
- И как жить, как выжить с этим всегдашним отчаянием, с его постоянной спутницей - тревогой?
- Я так скажу: если бы Бога не было, я бы застрелился... Был момент, когда я собирался выйти на Красную площадь, облить себя бензином и поджечь. Это 79-й год. Я подумал: если наши введут танки в Югославию, то я это сделаю. Почему-то думал, что мы вторгнемся на Балканы, а в Югославии у меня жила любимая женщина. Но Господь, должно быть, подтолкнул под локоть нашего министра обороны, и мы вошли в Афганистан. Об этом замечательно сказала одна вредная старушка, бывшая наша шпионка-резидентша на Востоке, у которой в Москве снимал комнату мой узбекский приятель по сценарным курсам.
- Полный мрак! - воскликнула старушка. - Зачем нам это нужно? Там же ничего, кроме пыли и болезней, нет. К тому же Афганистан всегда был наш.
Иосиф и Набоков
- Поколение шестидесятников, к которому мы принадлежим, в силу объективных причин был демонически невежественным, но тяга к культуре у нас в крови, читали мы запойно...
- Признаюсь, что я всегда был убогим читателем, я до сих пор читаю по слогам... От всех моих библиотек, от всех разводов у меня остались четыре книги: "Записки охотника", "Робинзон Крузо", "Приключения Тома Сойера" и Коран - из библиотеки прабабушки, первое издание в России, перевод с французского.
А Евангелие я впервые прочел в двадцать семь лет, когда уже написал "Сад" и "Дачную местность". В 63-м я прочитал Евангелие, Пруста, Заболоцкого, Мандельштама, Зощенко.
Прочитав все это подряд, я стал другим человеком. И знаете, как ни странно, может быть, они меня разорили, а не восстановили - может быть, я гораздо круче шел... Не знаю, благодарен ли я этому эпизоду. Да, была невероятная безграмотность, но и огромный заряд энергетики. Мы все были такими...
- А Иосиф Бродский? Были ли Вы с ним близки? Часто ли встречались в Ленинграде, в Нью-Йорке?..
- Мы никогда не были с ним близкими людьми, но у нас была странная, длинная, медленная цепь взаимоотношений - и он про меня помнил, и я про него.
В Ленинграде мы с ним часто встречались и беседовали на улицах.
Помню, выхожу я 1 сентября 1970 года на Невский - дату запомнил точно, потому что это был предельный срок сдачи "Пушкинского дома" в издательство и всю ночь я дописывал этот памятник, сделал четыреста страниц, до конца, правда, роман тогда не довел, но рукопись сдал, голова от бессонной ночи гудит - до открытия магазина, до одиннадцати оставалось еще минут двадцать, а навстречу мне Бродский идет.
"Здравствуй, Андрей". - "Здравствуй, Иосиф". - "Что так рано?" - "Да вот, только что роман отнес в издательство". - "Как назвал?" - "Пушкинский дом". - "Неплохое название... А я сегодня открытку от Набокова получил". - "Что пишет?" - "Что мой "Горбунов и Горчаков" написан редким для русской поэзии размером". - "И все?" - "И все".
- Похоже на литературные анекдоты Хармса...
- Чистый Хармс, но "анекдот" еще не окончен. Через год, уже в Москве, пошел я в "Новый мир", где меня тогда хронически не печатали. Смотрю: поднимается в роскошной дубленке (значит, валютные гонорары уже начали поступать) Надежда Яковлевна Мандельштам. "Здрасьте" - "Здрасьте". - "Как дела в Петербурге? Как Иосиф?" - "Иосиф получил открытку от Набокова". - "Вот как! Он уже интересуется нашими проблемами?.."
- На апрельской (1999 года) международной конференции в Петербурге, посвященной юбилеям А.С. Пушкина и В.В. Набокова, был сделан доклад "Сцепление времен": Пушкин, Набоков, Битов". Кстати, Набокова в 70-м Вы уже читали?
- В конце того года я его начал читать и, надо сказать, он меня проломил. У меня есть несколько писателей, на которых я проломился, - Набоков, Бродский, Платонов.
- А Пушкин, Лермонтов, Гоголь?
- Это идеальные для меня писатели золотого века русской литературы. Но великих писателей я ненавижу. Когда начал читать Толстого и Достоевского, терпеть их не мог. До тех пор, пока они меня взяли и не вые...и. И уже как вые...й читатель я вынужден был их полюбить.
Это сложная история, это событие жизни, это событие биографии. Прочитать книгу, как стихи Бродского, как "Подвиг" Набокова, как платоновский "Котлован", - все равно, что родить ребенка, это события одного ряда.
Набоков, по-моему, совсем не такой, как мы его себе представляем. Может быть, со временем мы поймем, что он не был таким уж олимпийцем, снобом и мастером, как мы привыкли думать в общем-то. А то, что это сердце, то, что это боль, вроде как заслонено этим невидимым снобизмом. Как и Пушкин - он не для нас писал. Скажем так: для чего-то еще. И вот это-то еще нам уже нужнее воды и воздуха.
Когда он умер, я пережил его смерть, как потерю близкого человека, хотя понятия не имел о нем как о личности. 1977-й был годом смертей: я потерял отца, а вскоре Набокова - и как-то это у меня слилось в ощущении...
- Когда 28 января 1996 года умер Иосиф Бродский, Вы написали, что смерть поэта - это не личная чья-то смерть, что власть, эта воплощенная трусость мира, оказала ему много милостей и почестей, обвинив в тунеядстве, сослав на Запад, как на химию, а затем, не дав визы, похоронить родителей...
- Мы виделись и разговаривали с Иосифом в Нью-Йорке ровно за месяц до его смерти - 28 декабря. Накануне я позвонил Иосифу, он сказал, что не успевает воспользоваться оказией, но рейс отменили, и мы успели свидеться. Господь послал мне эту встречу с ним, нарочно отложив отлет моего самолета. Иначе я не могу истолковать это, не преувеличивая себя, не преуменьшая его - это была судьба.
Он приехал ко мне на Вашингтон-сквер, где я как приглашенный университетский профессор снимал квартиру. Мы с Иосифом говорили об измотанности своих личных систем, хвастались болезнями, как нормальные старики. На прощание он меня обнял и сказал: "Только ты береги себя". Когда его не стало, я понял: Иосиф тогда со мной попрощался.
И когда в конце января я удрал в Переделкино, чтобы написать какой-то текст, включил "ящик" и услышал, что Иосиф больше никогда не приедет на Васильевский остров, я зарыдал, как теленок.
Когда умирают самые близкие твои люди - мать, отец, - они перестают тебя заслонять и ты становишься голым на земле. Тебе больше ничего не предстоит. Другие пусть разбирают его, гения, Нобелевского лауреата, на запчасти тщеславия, а я просто понял в день его смерти, что у меня не стало на земле заслона...
- Заслона от космической радиации?
- Верно, верно...
Забыть, чтобы выжить
- Мы в детстве, сказано поэтом, ближе к смерти, чем в наши зрелые года. Эта детская близость к смерти, наверное, и включает механизм памяти. У нашего поколения - в сорок первом нам четыре-пять - он запускается в войну...
- Моя память начинается с войны, с блокады, с первых июньских бомбежек в Любытине, с "Дороги жизни", по которой в марте сорок второго нас везли на Большую землю: колеса машин сантиметров на семьдесят утопали в воде, от них брызги под солнцем были похожи на крылья бабочек.
- На память не жалуетесь?
- Не жалуюсь, но она у меня плохая. Как ни странно для человека пишущего, словарной памяти у меня мало. Имена, числа - увольте... Я помню глазами. И еще - у меня идеальный внутренний слух, хотя я правильно не могу "Чижика-пыжика" спеть. Я просто помню все голоса. Все голоса и лица.
При моем способе писания прозы (я пишу текстами, т. е. главами, где все слова связаны) память особенно не требуется, а необходимо особое эмоциональное состояние, когда чувствуешь саму жизнь, начинаешь волноваться и с помощью письма ощущаешь себя в этом мире, познаешь его. У меня все черновики в голове, а пишу я набело и целиком, сразу.
- А в чем секрет прозы?
- Спровоцировать душу человеческую на реакцию полной аутентичности, вызвать в человеке его опыт. Если ты сумел это сделать - все, читатель твой.
Очень простой рецепт придумал я в молодости: "Скажи самое тайное - это будет самое общее". Не то скажи, что запрещено, разрешено, - все заболтались в этом диапазоне, - а скажи то, что ты чувствуешь. Я стоял тогда перед большой проблемой: что же я чувствую, что же действительно нуждается в проблеме моей памяти?
Допустим, я уходил от любимой и я не помнил ее, и меня это интересовало: как же так - я не помню свою любимую?...К чему же я стремился, если я так хорошо это забыл? Почему эта душевная смута стерта?..
Я не думал, что советская власть в этом виновата. Я думал о великом механизме ума, которым воспользовался человек для выживания.
Сегодня мне понятна цельность этой мысли. Не как они умирали, а как они выжили. А выжили они с помощью особого механизма ума, который я исследовал, понимал - по себе, по другим.
Лет пять назад я получил в Лос-Анджелесе книгу на английском, которая называется "Механизм забывания у Андрея Битова".
- Вы согласны с тем, что в основе памяти - забывание, как в основе ума - незнание?
- Может быть. Меня всегда волновало: как человек умудряется забыть?! Как он сумел забыть двадцатый век, девятнадцатый, Пушкина, Блока?.. И как он при этом выкрутился? Как выжил в системе запрещенной культуры, запрещенного духа?..
А выкрутился он благодаря биологическому механизму... У меня есть текст, который я очень люблю. Два моих героя стоят над автором, и один спрашивает: "Он мертвый или живой?" А другой отвечает: "Может, мертвый, может, живой, может, полуживой".
В чем заключается смертный грех? В грехе или в смерти? Нет ответа. И пока я не умер, я должен быть немертвым. Я обязан быть немертвым... Быть мертвым внутри жизни - это великий грех, этого нельзя разрешить себе.
Есть у человечества какая-то тайна, которая меня больше всего волнует. Целый биовид хранит эту тайну, тайну возраста, тайну секса. И никто не знает, сколько человеку хочется, когда он может, когда он умирает. Единственная программная вещь человечества - это то, что вы узнаете свой опыт, главным образом, любовный, а потом и всякий другой - последовательно. Никакой предварительной информации по опыту у человека нет, вы рождаетесь и умираете, не ведая того, что переживете.
Эту информацию человечество никогда не сделает открытой. Люди договорились не выдавать главную тайну жизни. Возраст не сообщает возрасту о возрасте. Все у нас обработано, кроме этого. Это запрет рода, запрет вида.
Эта тайна гораздо глубже всей философии.
Москва, второе рождение
- В свое время, чтобы не загреметь куда подальше, Вы покинули родной Ленинград с его вечно бдящим обкомом, ревнителем идеологической чистоты, и перебрались в Москву, где и живете уже больше тридцати лет...
- Сначала, в 65-м, я поехал учиться в Москву на Высшие сценарные курсы, а окончательно осел в столице в начале 70-х, когда поступил в аспирантуру Института мировой литературы.
Когда несколько лет назад в пушкинский день рождения на Большой Морской, рядом с Набоковским домом, мне вручили премию "Северная Пальмира" за "Оглашенных", я сказал, что ленинградец, петербуржец - это национальность, и вручение мне литературной петербургской премии означает мою национальную реабилитацию. Я петербуржец в пятом поколении, я контролирую в нашем городе могилы отца, матери, их родителей, моих предков. У меня тут живут внучка, дочка, жена, сын. Я бываю в Петербурге от одного до четырех раз в месяц.
- Вы не только переехали в Москву, но и родились там - во второй раз. Как это получилось?
- Бродский признался мне, что, когда ему делали операцию на сердце, твердил себе: "Иосиф, хорошо, что не голову, хорошо, что не голову". Опасался за сознание.
А мне в московском институте нейрохирургии у знаменитого Коновалова в мае 94-го голову буравили. Десять дней жизни давали, вызвали родных попрощаться: подозревали злокачественную опухоль мозга. Под местной анестезией операцию делали, я попросил, чтобы зеркало принесли, хотел все видеть. И когда вскрыли череп и поняли, что это не злокачественная опухоль, а нарыв, то хирурги запрыгали в операционной от радости, словно футболисты, забившие гол.
И я заплакал: "Надо же, кто-то радуется тому, что я буду жить..."
Источник: http://www.idelo.ru/201/22.html
«Старое литературное обозрение» 2001, № 2 (278)
«Новая Одиссея». Памяти Иосифа Бродского (1940—1996)
Екатерина СеменоваПоэма Иосифа Бродского «Часть речи»Рассматривая проблему жанра в творчестве Иосифа Бродского, Валентина Полухина особо отмечала обилие экспериментов в этой области: поэт «то возрождает омертвевшие жанры оды, идиллии, эклоги, то создает свои собственные жанры, для которых пока не найдено названия кроме как их определения по величине»1, то создает жанровые гибриды2... Новаторский подход к жанру отличает и поэмы Бродского. Предметом настоящего исследования, однако, станет произведение, в название которого слово поэма не входит: цикл «Часть речи» (1975—1976)3.
В статье К.Г.Исупова «О жанровой природе стихотворного цикла» говорится: «...не замещая устойчивые жанровые образования и не претендуя на их место, цикл всегда стремится стать чем-то большим, чем он есть на самом деле... происходит порождение образов жанров (образа венка сонетов, образа поэмы, образа баллады)»4. Когда читаешь «Часть речи», «порождение» «образа поэмы» происходит сразу. Во всех стихотворениях — одинаковое число строк (12, кроме первого); написаны они одним и тем же размером (5-6-иктный дольник). По сути, перед нами строфы (или, как пишет М.Ю.Лотман, «гиперстрофы»5). Есть и посвящение, и вступление, и эпилог, хотя они не обозначены формально. Первое — это «Ниоткуда с любовью...»: речь в нем идет о возлюбленной героя. Второе — «Север крошит металл...», где задан центральный мотив цикла: персонаж добровольно принимает свою судьбу. Последнее — «Я не то что схожу с ума...» — содержит абрис жизнь героя в грядущем. Но «Часть речи» обладает не только формальными «поэмными» признаками: перед нами поэма и «по сути», где стихи связаны в единое целое глубокими внутренними связями, смысловыми и образными. На протяжении всего цикла решается, говоря словами Пушкина, вопрос «самостоянья» героя. При этом отношение к нему не остается неизменным, и можно четко проследить его эволюцию.
В «Ниоткуда с любовью...» герой «потерян», и даже не «в мирозданьи», как сказано в «Я был только тем, чего...» (1981), а «в нигде». Место, момент действия («надцатого мартобря») — все это неопределенно, не существует, и единственное реальное понятие здесь — любовь. Именно она помогает герою «сориентироваться», обрести себя. Первая его мысль по пробуждении — собственно, она заставляет его проснуться — о любви. Образ говорящего проявляется, опять-таки, в связи с любовью: «не ваш, но / и ничей верный друг». Идея любви как творящего начала доводится до абсолюта. Если тот, кого поэт называет «сам» («я любил тебя больше, чем ангелов и самого») — своевольный и деспотичный Бог Ветхого Завета, то любовь можно уподобить Богу Нового Завета (к нему и относятся слова «Бог есть Любовь» (1 Ин. 4, 8)). Она воскрешает из небытия и восстанавливает погибшее мироздание. Напротив, конец любви — это смерть для героя: он «замерзает», земля отталкивает его:
То ли по льду каблук скользит, то ли сама земля закругляется под каблуком — («Север крошит металл...») — и ему предстоит путь «за моря», туда, где садится солнце (странствие на Запад — традиционный символ ухода в потусторонний мир).
Стихи «Части речи» — «моментальные срезы сознания»6 и душевного состояния персонажа7. Раз за разом его посещают воспоминания о возлюбленной. В «Узнаю этот ветер...» они вызывают у героя слезы; в «Потому что каблук оставляет следы...» — убивают его, отбрасывая «тело<...> от души». Эти мысли ярки и подчас столь мучительны, что сменяются периодами почти бесчувствия, «замерзания» и «окаменения». Так, «тело», которое «покоится на локте, / как морена вне ледника», напоминает умершего: остаток «Великого оледенения» сходен с останками человека («Это — ряд наблюдений...»). Воспоминания преследуют героя: в «Узнаю этот ветер...» природа, похожая на родную, мгновенно вызывает в памяти ЕЁ, чье «кайсацкое имя»8 шевелит во рту его язык. Стихия осени напрямую отождествляется с НЕЙ; она становится «духом» прошлого и всего того, что было оставлено на родине: ее образ неразрывен с каждым воспоминанием, напоминая о себе то прямо, то косвенно.
Однако уже с начала цикла явственно стремление героя обуздать переживания, отстраниться от них. В первом, накаленном до предела, тексте, где персонаж «извивается ночью на простыне», вслед за этой самой строкой следует ироническое: «как не сказано ниже по крайней мере». Похоже, именно об этом расколе «на страдающего и на пишущего» Бродский сказал в связи с «Реквиемом» Ахматовой9. Ипостаси героя («поэт» и «влюбленный») расходятся10: один переживает, другой в тот же самый момент контролирует стиль («обнажение поэтической кухни» — так характеризует эти слова В.А.Куллэ11). И для поэта такое состояние естественно: в голосе героя звучит страсть, но одновременно автор оценивает ее, учитывает «реакцию публики». «Когда вы пишете стихи, то всегда предчувствуете, что существует некое сардоническое сознание, которое посмеется над вашими восторгами и сожалениями. Отсюда идея — «побить» это сардоническое сознание. Украсть шанс у него. А единственная возможность украсть — это посмеяться над собой», — сказал Бродский в одном из интервью12.
В «Север крошит металл...» мотив любви редуцирован до предела, выражен лишь намеками; происходящее осмысливается не в плане личных обид, но с точки зрения, так сказать, природных процессов. Вся жизнь персонажа, все ее составляющие обусловлены природными факторами, естественной «средой обитания»; вместе они образуют целостную и слаженную картину мира. Холод побуждает к творчеству; он же заставляет искать тепла в общении («север <…> учит гортань проговорить “впусти”»); героя отторгает не только близкий человек — который едва упомянут — но и «сама земля». Даже существование оконного стекла объясняется тем, что природа, «север», «щадит» его.
Герой объясняет свою участь законами природы и не пытается им противодействовать: он пассивен перед лицом трагедии. Как ни парадоксально, это дает ему возможность выстоять: любовь в контексте природных явлений теряет свою исключительность и власть над ним. Взгляд на происходящее «с точки зрения мироздания» не позволяет, по выражению самого Бродского, «расплескивать эмоции по столу». И постепенно, по ходу цикла, герою удается одолеть собственные переживания. Смерть от воспоминания («Потому что каблук...») сменяется трезвым видением прошлого:
В этих плоских краях то и хранит от фальши сердце, что скрыться негде и видно дальше. («Я родился и вырос в балтийских болотах...») Четкость перспективы помогает осознать, что случившееся изменить невозможно: разрыв и разлука — то, что «случается навсегда». Поскольку скрыться негде, герой всегда открыт катастрофам: на «плоском» пространстве он приучился жить, готовый в любой момент к встрече с немилостивой судьбой и отдавая себе полный отчет в последствиях этих встреч13.
К «Части речи» полностью приложимы слова Бродского из беседы с С.Волковым: в трагической ситуации надо «<...> дать трагедии полный ход на себя, дать ей себя раздавить. Как говорят поляки, «подложиться». И ежели ты сможешь после этого встать на ноги — то встанешь уже другим человеком»14. Раздавленный трагедией, в ходе цикла герой встает на ноги другим человеком. Он не только осмысливает произошедшее: он сам изменяется в ходе этого осмысления. И первоочередную роль здесь играют творчество, Слово, Язык.
Это хорошо иллюстрирует «В городке, из которого смерть расползалась по школьной карте...». Все, что видит в «городке» персонаж, имеет как бы два лица: одно — нынешнее, «мирное», другое — давнее, страшное. «Оконная марля, выцветшая от стирки» — это и занавеска, и застиранные госпитальные бинты (недаром сквозь нее «проступают ранки гвоздики»!). Трамвай, с которого «никто не сходит больше у стадиона», тоже напоминает «время оно»: тогда в большом почете был спорт, развитие которого диктатура всегда поощряет. Напротив, в финале образы, связанные с войной, получают «мирную» подоплеку. «Венский стул», «блондинка» — эти детали имеют, так сказать, «немецкий оттенок» (традиционно представление о светлых волосах немецких женщин). Но платье на спинке стула — символ «настоящего конца войны» — свидетельствует о том занятии, которое полностью ей противоположно (оттого их часто сравнивают). Следующий образ еще более, нарочито «вывернут», это индивидуальная метафора, не сразу понятная читателю. «Пуля», «уносящая жизни» — крылатая, «серебристая»: это самолет, на котором отдыхающие летят «на Юг в июле», т. е. на курорт15.
Война вечно с нами, утверждает поэт. Ее конец настанет, когда образы, ранее мыслившиеся исключительно как военные, приобретут новые, мирные коннотации, и война сама станет метафорой мирной жизни; иными словами, когда трансформируется наше сознание и язык16. При этом война неизбежно будет присутствовать на первом плане — плане выражения — но «план содержания» станет иным: это будет мирная жизнь. И главную роль в этом изменении играют словб: отстранение воспоминаний возможно потому, что в языке существует явление метафоры. «Факты жизни» становятся «фактами языка».
Условно говоря, в цикле действуют две силы: любовь и творчество, Слово. Значение первой для персонажа постепенно слабеет. Накал чувства («я взбиваю подушку мычащим ты») сменяется условностью и иронией:
ввечеру у тела, точно у Шивы, рук дотянуться желающих до бесценной («Около океана...») Напротив, второй мотив выявляется все сильнее, пока не сталкивается с первым в «Ты забыла деревню...». Если в «Ниоткуда с любовью...» сила любви творила мир, то прекращение любви означает его гибель. Та, что забывает, имеет для героя колоссальное значение: она обладает силой демиурга17; мироздание существует по ее воле, ее память эквивалентна Вселенной. То, что «вычеркнуто» из нее, исчезает, уходит в небытие.
Если память о любви, а, следовательно, и сама любовь угасла в душе героини, то герой борется с этим, воскрешая их в поэзии. Стихотворение способно оживить забытый мир, также как прежде любовь возродила к жизни героя. Отсюда жадное перечисление18 примет «затерянной деревни»: место, где она находится, пейзаж без «чучел на огородах», бедные посевы, труднодоступность, имена и образ жизни ее обитателей (реальных жителей Норенской). Герой наделяет прошлое бытием: назвать — значит дать жизнь, и одновременно заставляет героиню вспомнить о нем.
«Человек доживает до перемены интересов, как до седых волос, как до морщин <...> Ну, например, меня интересовали, особенно в те поры (т. е. до отъезда из России — Е.С.), личные взаимоотношения романтического, если хотите, характера. Сейчас превалируют интересы литературные, т. е. мир идей», — сказал Бродский в интервью Белле Езерской19. «Часть речи» — своего рода иллюстрация к этому высказыванию. Если от первого («Ниоткуда с любовью...») до десятого («Ты забыла...») стихотворения о любви так или иначе говорится в каждом тексте, то прямо, то косвенно, то во второй половине цикла этот мотив практически вытесняется и выражен лишь намеками. И если в начале отречение от «романтических» взаимоотношений — вынужденное, вызвано ударом судьбы, то уже в «Заморозки на почве...» речь идет об осознанно и добровольно избранном пути:
Ты не птица, чтоб улетать отсюда. Потому что как в поисках милой всю-то ты проехал вселенную, дальше вроде нет страницы податься в живой природе. Зазимуем же тут, с черной обложкой рядом<...> — а в последнем стихотворении «Части речи» эта идея подтверждена и доведена до конца. Прежде состоянию персонажа можно было дать целый ряд характеристик: изгнание, разлука, разрыв, близость к смерти, одиночество, отчаяние... Теперь же автор сам определяет его: свобода.
Знаменательно, что само восприятие прошлого по ходу цикла меняется: можно сказать, герой «пересматривает» былое. Особенно сильно это заметно в «...и при слове «грядущее» из русского языка...»20. Из текста следует, что персонаж в течении многих «зим» ощущал близость смерти (удачная замена слова «лет»: устаревшее «лето» — то же, что «год»): «После стольких зим уже безразлично, что / или кто стоит в углу у окна за шторой».
Слово «зим» позволяет поддержать мотив «смертного холода», который сопутствует «чистому времени» — Времени как таковому, «без примеси» человеческой жизни21 («Эклога V-я (зимняя)», 1980). Однако многие стихотворения первой половины цикла — хотя бы то же «Ниоткуда с любовью...» — нельзя назвать «зимними»: слишком они эмоциональны, окрашены любовным чувством (хотя и в них «все время пахнет смертью», как сказал Бродский об ахматовском «Реквиеме»22). Но к концу цикла герой уже не помнит о том, что он чувствовал десять стихотворений назад. От тех, «романтических», переживаний не осталось и следа. Все предыдущие годы превратились в одинаковые «зимы».
Напротив, творчество, стихи, бумага, буквы, Язык —появляются из текста в текст. Стихотворение «Если что-нибудь петь...» все пронизано этими образами, как Бог присутствует во всем мироздании и движет им. Перемена ветра, воспеваемая поэтом, оказывается достойной этого в свете следующих строк: «замерзшая ветка», которая «перемещается влево, поскрипывая от неохоты», наводит на мысль о руке, держащей перо и затекшей от напряжения — она дописала строку до конца и переносится к началу следующей. (Цезура в первой строке как бы фиксирует перемену направления движения.) Ветер, таким образом, подобен силе, которая движет рукой, записывающей строчку за строчкой — той силе, что порождает стихотворение. Сила эта, как неоднократно говорил Бродский — сам Язык; он оказывается сродни стихиям (ветру в том числе) и столь же могуществен. Так в тексте рождается «миф о языке»23; герой, с его отстраненностью от личных переживаний, становится элементом этого мифа, и сравнение его с кентавром — мифологическим персонажем — оказывается в высшей степени уместным:
Иногда голова с рукою сливаются, не становясь строкою, но под собственный голос, перекатывающийся картаво, подставляя ухо, как часть кентавра. Последние строки в «...и при слове “грядущее” из русского языка...» — настоящий апофеоз Слова:
От всего человека вам остается часть речи. Часть речи вообще. Часть речи. Здесь говорится и о значимости Слова (вспомним, например, «1972 год»: «Все, что творил я, творил <...> ради речи родной, словесности»), — и о его долговечности, несравнимой с краткой жизнью человека (позже это прозвучит в «Эклоге V-й (зимней)»). В то же время это отголосок «Горбунова и Горчакова»: «Вещь, имя получившая, тотчас / становится немедля частью речи24.
Таким образом, во-первых, человек самим своим именем входит в язык; во-вторых, что важнее, в языке сохраняется вклад человека — то, что было им сказано25. Иной формы бытия после смерти герой для себя не видит. Однако, как правило, персонаж Бродского, его alter ego — поэт, а его «раченье-жречество» — это творчество. В «...и при слове “грядущее”...» герой и Слово анонимны и абсолютизированы. Перед нами не поэт, но человек; не стихи, но «часть речи»26. А дело в том, что герой оказался в ситуации, когда все равны — перед лицом небытия. Внезапное обращение «вам» (обращений в «Части речи» почти нет) — это слово к «остающимся», живым. Что неудивительно в тексте, который весь насыщен уничтожением. «Мыши» «всей оравой / отгрызают от лакомого куска / памяти». Потеряны прежние интересы, тематика творчества, интонация стихов: «... в мозгу раздается не неземное “до”, / но ее (смерти? — Е.С.) шуршание». То и дело герой сталкивается с «хищной» жизнью, «которой, как дареной вещи, не смотрят в пасть», и она «обнажает зубы при каждой встрече». Именно пытаясь противостоять этому, герой твердит: «часть / речи. Часть речи вообще. Часть речи»27. Он не молится, не заклинает: он произносит слово — и оно остается в вечности. Как Всевышнему было достаточно выговорить: «Да будет свет!» — и стал свет (Быт. 1, 3). Возможность сказать «делает смертного равным Богу». Убеждаешься, что вера поэта в «силу слов» была действительно безгранична.
Не только в «...и при слове “грядущее”...», но и в других стихах «Части речи» творчество бок о бок соседствует со смертью. С другой стороны, смерть связана с любовью. Притом эти две «смерти» различны. Когда речь идет о любви, то последний рубеж либо уже перейден («Ниоткуда с любовью...», «Это — ряд наблюдений...»; так же можно понять и строки из «Около океана...»: «В деревянном городе крепче спишь, / потому что снится уже только то, что было»), либо это происходит на наших глазах («Потому что каблук...»). Мотив посмертия в «Части речи» очень устойчив: о нем говорится и в стихах о творчестве. Но одновременно речь заходит об ожидании грядущей кончины.
Так, в стихотворении «Темно-синее утро в заиндевевшей раме...» символ ужасного в жизни героя — «черная доска <…> от которой мороз по коже». В детстве это была классная доска; теперь — гробовая, черная насквозь; апофеоз черноты — смерть. При этом герой прямо говорит, что доска «осталась черной» «и сзади тоже»28: значит, он наблюдает ее «с той стороны» последнего предела. Вот похожий символ из «Заморозки на почве и облысенье леса...»: «Зазимуем же тут, с черной обложкой рядом, / проницаемой стужей снаружи, отсюда — взглядом<...>» (курсив наш — Е.С.) — и вновь герой не только предчувствует конец, но и прозревает посмертие. А вот как изображена насильственная смерть, произошедшая минуту назад:
видишь внезапно мучнистую щеку клерка, беготню в коридоре, эмалированный таз, человека в жеваной шляпе, сводящего хмуро брови, и другого, со вспышкой, чтоб озарить не нас, но обмякшее тело и лужу крови. («Итак, пригревает. В памяти, как на меже...») Повествование настолько бесстрастно, что вновь возникает мысль: кто это видит? уж не душа ли, отделившаяся от «обмякшего тела»?29 Смерть неподвижно ждет героя «в углу у окна за шторой» («...и при слове “грядущее”...»); сон персонажа на фоне зимы в «Я не то что схожу с ума...» — это смертный сон...
От текста к тексту повторяется одно и то же: герой при жизни «подглядывает», «как будет там» (слова Туллия, персонажа пьесы Бродского «Мрамор»). И возможно это благодаря творчеству. Существование после смерти и создание стихов объединяются в одном образе — странствия души. Это случилось еще в «Большой элегии Джону Донну», где на наших глазах словом художника творится мир: Лондон, Англия, земля и небо — и в то же время весь он охвачен сном, принадлежит потустороннему.
То же сказано в эссе «Об одном стихотворении»: «Речь выталкивает поэта в те сферы, приблизиться к которым он был бы иначе не в состоянии», «душа певца<...> пребывает в постоянном движении»30. Бродский прямо сравнивает это странствие с «посмертными скитаниями» человеческой души. Место, где это все происходит, названо «поэтическим раем»31.
К этим мотивам читателя «Части речи» отсылает «Темно-синее утро в заиндевевшей раме...». Оно все построено на выражении «мысленно перенестись». Герой мысленно устремляется от окна на «улицу с горящими фонарями», по «ледяной дорожке» мимо перекрестков и сугробов. Начиная свой путь в Америке, он заканчивает его в России, в школьной «раздевалке в восточном конце Европы». Собственно, перед нами — полет души прочь от тела (как в «Потому что каблук...»), тем более что герой дремлет («Неохота вставать» — говорится в последней строке)32. Но одновременно это — освоение пишущим одного из уголков Вселенной. Как в «Большой элегии», рождение стихов и появление перед нашими глазами ленинградской школы 1950-х годов происходит одновременно:
Там звучит «ганнибал» из худого мешка на стуле, сильно пахнут подмышками брусья на физкультуре; — деталь за деталью перечислены «черная доска», «дребезжащий звонок», «кристалл», «параллельные линии». Воспоминание, дремота, создание стихов и полет души сливаются воедино.
Но творчество, речь, Слово не только приоткрывают перед героем тайну посмертия: они помогают выжить ввиду смерти. «Зазимуем же тут, с черной обложкой рядом, / проницаемой стужей снаружи, отсюда — взглядом, / за бугром в чистом поле на штабель слов / пером кириллицы наколов». Даже вплотную подойдя вплотную к «черной обложке» и ощущая струящийся из-за нее холод небытия, герой остается живым человеком. На это указывает и вполне реальный пейзаж во «Всегда остается возможность...». Может быть, улица, куда выходит герой — это одна из улиц «города памяти», как в эссе «Место не хуже любого» (1986) — конгломерата воспоминаний путешественника, «закрученного лабиринта улиц, переулков и аллей, принадлежащих одновременно нескольким местам», где происходят события снов33. Но персонаж не перерождается, подобно героине цветаевской «Поэмы воздуха», и мыслит по-прежнему земными образами. Говоря словами Туллия, для него «пожизненно переходит в посмертно», а «посмертно» — в «пожизненно». Повторим, что в конце цикла («Я не то что схожу с ума...») стоит не слово «смерть», но «свобода». Приметы ее — вполне земные («не помнишь отчество у тирана»). Да, герой простился со всем, что ему было дорого — с родиной, с пережитым, с любовью. Убедился, что для него закономерно и естественно — жить «в крайнем положении», на пределе между жизнью и смертью34. Но это именно жизнь, и она продолжается.
Ощущение неразрывной связи текстов «Части речи» порождает и то, как изображен герой. Во многих стихотворениях появляется его портрет, построенный по одному и тому же принципу: это совокупность отдельных органов, проявлений, частей одежды35. Гортань, пальцы, каблук, сердце, глаза, уста, «голова с рукою», локоть, ушная раковина — все это живет и действует само по себе: так создается впечатление, что герой отчужден от себя, отличается от человека с «нормальными сантиментами» (выражение Бродского). С этой манерой сочетается особый прием «растворения» персонажа в окружающей среде. Яркий пример — «Деревянный лаокоон, сбросив на время гору с...». Природа живет слаженной жизнью, как единый организм — огромное тело, лопатки которого — холмы, зубы — «огрызки колоннады», а язык, на котором вкус крови и слез — волны «средизимнего» моря36. И движет ею «одичавшее сердце» самого персонажа: оно «все еще бьется за два».
Далее, весь текст насыщен страданием. Искривленное, согнутое ветром дерево напоминает Лаокоона, мучимого змеями. Одновременно это Атлант: на его плечах — невыносимая тяжесть неба, перевоплотившаяся в «огромную тучу». «Перекрученные канаты / хлещут спины холмов <...>»; торчащие обломки колонн похожи на выбитые зубы... И в «пассивной» функции выступают те части тела, те его проявления, которые наиболее важны для героя-поэта. Голос, способность говорить — едва ли не главная в его жизни: так, слова из стихов на сорокалетие «Но пока мне рот не забили глиной» означают: «Пока я жив...»37. Сердце, его болезнь, по понятной причине, также то и дело упоминаются в стихах Бродского. Пик мотива страдания — образ именно «человеческого» мучения, и не только физического, но и морального — унизительное положение «лежачего» в «лужице»38.
Сращению «Части речи» в единое целое также способствует постоянное внимание ко Времени в этих стихах. С одной стороны, едва ли не в каждом тексте указано время года. Когда читаешь стихотворения одно за другим, кажется, что автор фиксирует хронологию того, о чем говорится в цикле. (Например, между «Темно-синее утро» и «С точки зрения воздуха...» проходит полгода: в первом случае на дворе зима, во втором — лето). С другой стороны, Бродский следует своим словам: «поэзия — это реорганизованное время»39, — и действительно реорганизует его, заставляя нас обратить внимание на эту сторону текста. Например, в «Около океана...» по ходу текста герой постепенно засыпет. «Привязка» сюжета к динамичному процессу помогает въяве почувствовать ход Времени: автор как бы подталкивает нас к тому, чтобы мы разделили его интерес ко Времени40.
Среди таких процессов, запечатленных в «Части речи» — рождение стихотворения. Стихи как бы появляются на наших глазах41. В «Ниоткуда с любовью...» поэт упоминает выбор даты — «надцатого мартобря», перебирает обращения к героине: «дорогой, уважаемый, милая, но неважно / даже кто», — и оговаривается «как не сказано ниже по крайней мере» — оценивая написанные им самим строки42. В «Тихотворение мое, мое немое...» мы видим героя за «работой»:
вручную стряхиваешь пыль безумия с осколков желтого оскала в писчую — а в конце речь идет об уже готовом тексте («ломоть отрезанный, тихотворение»). В «Заморозки на почве и облысенье леса» то же самое передано с помощью метафоры: «за бугром в чистом поле» (т. е. на белой бумаге) «на штабель слов / пером кириллицы наколов». («Черный вертикальный сгусток слов посреди белого листа бумаги» — так назвал Бродский стихотворение в Нобелевской лекции43.)
Казалось бы, со всем тем, что мы говорили о единстве «Части речи», плохо согласуется разнообразие «материала», на котором строятся стихи. Перед читателем — то «север», то южное «средизимнее» море; то морские глубины («из-за штор моллюск / извлекут»), то космос («Что касается звезд...»). Как на гигантских качелях, мы переносимся от далекого исторического прошлого (татарское нашествие) к тому, что произойдет «через тыщу лет»; от Пушкина («Ты не птица, чтоб улетать отсюда» (ср. «И вымолвить хочет: «Давай улетим! / Мы вольные птицы!») — к шлягеру: «...в поисках милой всю-то / ты проехал вселенную...» (ср. «Всю-то землю я проехал, / Нигде милой не нашел»)44; от страсти, вырывающей героя из сна — к стремлению «спать, не раздевшись». С этой точки зрения стихи почти автономны. Но «Часть речи» не рассыпается на фрагменты — зарисовки и размышления, потому что как бы ни был широк охват материала, во всех стихотворениях автор пишет, грубо говоря, об одном и том же. Он разрабатывает те же самые ситуации45; они взаимосвязаны; их перечень ограничен: воспоминание героя о возлюбленной, переход от земного бытия к потустороннему и существование там (одновременно это жизнь на чужбине; ср. также «жизнь в раю» в «Ты забыла деревню...« и упоминавшееся выше странствие души); бытие в «предсмертии»; корни творчества персонажа; процесс создания стихотворения. Обращения к ним из текста в текст соединяет цикл в неразрывное целое с высокой смысловой плотностью; четко прослеживается их развитие и его результаты. Так создается единая линия, которая превращает цикл в поэму.
Вопрос об истоках «Части речи» — новой разновидности русской поэмы ХХ века — требует отдельного исследования. Однако укажем произведение начала столетия, где фрагменты объединяются таким же образом. Оно принадлежит перу поэта, которого Бродский очень любил в юности и «активно» не любил в зрелые годы: речь идет о цикле А.А.Блока «На поле Куликовом», который с полным правом можно назвать поэмой. К сожалению, сравнение этих двух «поэм-циклов» выходит за рамки нашей статьи.
Примечания
1 Полухина В.П. Жанровая клавиатура Бродского // Russian Literature. Vol. 38, no. 2—3. Amsterdam, North-Holland, 1995, p. 146.
2 Например, «Посвящается Ялте» (1969) — «детектив в стихах» (Полухина В.П. Там же).
3 Это произведение неоднократно привлекало внимание исследователей; см.: Науменко А.В. «Часть речи» И. Бродского // Язык и культура: Третья междунар. конф.: Тез. докл. Киев, 1994. С. 246—247; Крепс М. О поэзии Иосифа Бродского. Ann Arbor, 1986. С. 246—254; Пярли Ю. Синтаксис и смысл. Цикл «Часть речи» И. Бродского // Модернизм и постмодернизм в русской литературе и культуре. Helsinki, 1996. С. 409—418; Бельская Л.Л. «Часть речи» Иосифа Бродского // Русская речь. М., 1998. №1. С. 21—27. См. также исследования отдельных текстов цикла: Куллэ В.А. «Структура авторского “я” в стихотворении Иосифа Бродского “Ниоткуда с любовью”» // Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба. СПб, 1998. С. 136—142; Ковалева И.И., Нестеров А.В. О некоторых пушкинских реминисценциях у И.А.Бродского // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. М., 1999. № 4. С. 12—17 (рассматриваются «Заморозки на почве и облысенье леса...» и «... и при слове «грядущее» из русского языка«).
4 Исупов К.Г. О жанровой природе стихотворного цикла // Цельность художественного произведения и проблемы его анализа в школьном и вузовском изучении литературы. Донецк, 1977. С. 165.
5 Термин вводится в статье: Лотман М.Ю. Гиперстрофика Бродского // Russian Literature... , p. 303 сл. — для характеристики формально повторяющихся групп строф на протяжении одного и того же текста (например, из двух гиперстроф состоит стихотворение «Дебют»).
6 Куллэ В.А.Указ. соч. С. 137.
7 Ср.: Фоменко И.В. Поэтика лирического цикла. Дисс. ... докт. филол. наук. Калинин, 1989. С. 121.
8 Т. е. Басманова. (Это мнение высказал В. А. Куллэ в беседе с автором статьи.)
9 Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 1998. С. 244.
10 Двойственность взгляда на происходящее в стихотворении отмечена и В.А. Куллэ (Куллэ В.А. Структура авторского «я»... С. 141).
11 Там же.
12Цит. по: Polukhina V. The Self in Brodsky’s Interviews // Russian Literature. Vol. 38, no. 2—3. North-Holland, 1995, p. 357. Ср. о самоиронии в стихах Бродского: Уфлянд В. Ястреб российской словесности // Литературное обозрение. 1997. № 3. С. 34.
13 Не следует отказываться и от примитивного «переднего плана» значения этих строк, тем более что сходный эпизод имеется в эссе «Коллекционный экземпляр» (1991): в длинных и прямых петербургских улицах героине «не скрыться» от персонажа, идущего по пятам, дабы узнать, верна ли она ему (Сочинения Иосифа Бродского. Т. 4. СПб., 1995. С. 209).
14 Волков С. Диалоги... С. 49.
15 Полухина В.П. Грамматика метафоры и художественный смысл // Поэтика Бродского. N.J., 1986. С. 69.
16 Значение, которое Бродский придавал личной способности человека выразить ту или иную мысль и взаимосвязь ее с человеческим сознанием и душевным состоянием, было отражено автором в эссе «Речь на стадионе» (1988): «Сосредоточьтесь на точности вашего языка. Старайтесь расширять свой словарь. <...> Цель в том, чтобы дать вам возможность себя выразить как можно полнее и точнее, одним словом, цель — ваше равновесие. Ибо накопление невыговоренного, невысказанного должным образом может привести к неврозу. <...>» («Звезда». 1997. №1. С. 63).
17 Показательно в этом смысле созданное позднйе стихотворение «Я был только тем, чего...» (1981), также посвященное М.Б. Героиня наделена функциями демиурга: «Это ты, горяча, / ошую, одесную / раковину ушную / мне творила, шепча. / Это ты, теребя / штору, в сырую полость / рта вложила мне голос, / окликавший тебя». Ср. интерпретацию героини как подобия серафима из «Пророка» Пушкина в ст.: Кузнецов С. Пушкинские контексты в поэзии Иосифа Бродского / Материалы III и IV Пушкинского Коллоквиума в Будапеште, 1991, 1993. Budapest, 1995. С. 223—230.
18 См. о приеме перечисления у Бродского: Гордин Я.А. Странник // Russian Literature..., p. 230; его же: Величие замысла // Звезда. 1999. № 1. С.129.
19 Езерская Б. Если хочешь понять поэта... / Бродский И. Большая книга интервью. М., 2000. С. 193.
20 Мы считаем, что последовательность стихотворений в «Части речи» формирует «линию времени», на которой, в соответствии с порядком расположения текстов, помещаются описанные в них события, т. е. имеет место некоторая эволюция героя. Ср.: Фоменко И.В. Поэтика лирического цикла... С. 87: «<...> хронология должна была стать “канвой”, рождающей иллюзию сюжета, в основе которого — история становления личности, ее духовный опыт».
21 Куллэ В.А. «Там, где они кончили, ты начинаешь...». О переводах Иосифа Бродского // Russian Literature..., p. 276.
22 Волков С. Диалоги... С. 244.
23 Ср.: Бродский И. Девяносто лет спустя // Звезда. 1997. №1. С. 32—33.
24 Сближение и сопоставительный анализ процитированных фрагментов проводится в работе: Кулишова И.Г. Слово в поэзии Иосифа Бродского. Автореферат дисс. канд. филол. наук. Тбилиси, 1998. С. 27.
25 «Создаваемое сегодня по-русски или по-английски, например, гарантирует существование этих языков в течение следующего тысячелетия. Поэт, повторяю, есть средство существования языка» (Бродский И. Нобелевская лекция... С. 15).
26 Не понятие из морфологии, поскольку сказано «часть речи вообще».
27 Фактически то же самое происходило в «Узнаю этот ветер...», но там герой твердил имя любимой. Вот еще одно свидетельство «перемены» его «интересов».
28 В основу образа, вероятно, положено воспоминание о двусторонней, переворачивающейся доске, которые сохранились в школах до нашего времени.
29 С.А.Лурье цитирует: «Поэзия Бродского в некотором смысле запись мыслей человека, покончившего с собой»: Лурье С.А. Свобода последнего слова / Иосиф Бродский размером подлинника. Таллинн, 1990. С. 172—173.
30 Об одном стихотворении / Сочинения Иосифа Бродского. Т. V. СПб., 1999. С. 147.
31 Там же.
32 Ср. замечание Бродского: «Стихотворение чем-то напоминает тяжелый сон, когда получаешь — и тут же теряешь — нечто чрезвычайно ценное» (Бродский И. Девяносто лет спустя // Звезда. 1997. №1. С. 32).
33 Герой эссе советует разглядывать витрины магазинов: это «приятный способ убить время» (Там же. С. 61); ср. в стихотворении: «<...>Некоторые дома / лучше других: больше вещей в витринах».
34 Судьба героя такова именно потому, что он поэт: «...порой с помощью одного слова, одной рифмы пишущему стихотворение удается оказаться там, где до него никто не бывал, — и дальше, может быть, чем он сам бы желал» (Бродский И. Нобелевская лекция... С. 16).
35 См.: Полухина В. Поэтический автопортрет Бродского / Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба. СПб, 1998. С. 147—148.
36 Вместе с тем «портрет» природы распадается на отдельные части также, как и портрет героя/ Cр.: «Пейзажам Бродского свойственна раздробленность, они словно бы распадаются на отдельные детали», объединенные все же «чем-то большим, нежели простое соседство» (Ваншенкина Е. Острие. Пространство и время в лирике Иосифа Бродского // Литературное обозрение. 1997. №3. С. 39).
37 «Я входил вместо дикого зверя в клетку...» (1980).
38 Также человеческие действия, способности, мысли «передоверяются» окружающему миру в «Потому что каблук...»: «В деревянных вещах замерзая в поле, / по прохожим себя узнают дома». В другом стихотворении сказано: «С точки зрения воздуха, край земли / всюду» — хотя речь идет о «точке зрения» самого героя. В «Итак, пригревает…» и «Если что-нибудь петь…» образы вполне реальных весны и зимы одновременно являются метафорой происходящего в сознании и памяти героя.
39 «<...> поэт — он всегда дело со Временем имеет<...> Потому что песня — она что? Она — реорганизованное Время» (Бродский И. Мрамор / Бродский И. Форма времени. Стихотворения, эссе, пьесы. В 2-х т. Т. 2. Минск, 1992. С. 274).
40 Биркертс С. Искусство поэзии / Бродский И. Большая книга интервью. С. 76. То же наблюдается в «Потому что каблук...», где описано наступление вечера (в начале текста на улице еще достаточно светло, чтобы дома «узнали себя» «по прохожим», а в конце небо черно, как будто «натерто крылом грача»), в «Деревянный лаокоон...», где изображено приближение грозы, ливень и затем — радуга (ее появление «зашифровано» в словах «Каждый охотник знает, где сидят фазаны <...>») и в «Темно-синее утро...», где школьный день: выход из дома зимним утром, «толчея в раздевалке», уроки — умещается в несколько мгновений утренней дремоты персонажа.
41 Эта особенность многих стихотворений Бродского отмечена в ряде исследований: Крепс М. О поэзии Иосифа Бродского... С. 6; Лосев А. Иосиф Бродский. Предисловие // Эхо. Париж, 1980. №1. С. 30; Баткин Л.М. Тридцать третья буква. Заметки читателя на полях стихов Иосифа Бродского. М., 1997. С. 69.
42 А. К. Жолковский пишет о «специфическом для него <Бродского> акценте на авторской воле» и «педалировании» ее «с помощью вводных конструкций» (Жолковский А.К. «Я вас любил»... Бродского» / Жолковский А.К. Блуждающие сны и другие работы. М., 1994. С. 214).
43 Бродский И. Нобелевская лекция... С. 15.
44 См. «Заморозки на почве...». Отсылки к Пушкину пронизывают «Часть речи». См.: Ковалева И.И., Нестеров А.В. О некоторых пушкинских реминисценциях... С. 12—17.
45 Ср. замечание Е.М.Петрушанской о «вариационном прорастании и обновлении, полифонии смысловых оттенков, на фоне неизменно заданной «основы»» «с изменением «точки взгляда»«, наблюдаемых на протяжении больших стихотворений Бродского (т. е. в отдельно взятом тексте): Петрушанская Е.М. «Remember her». «Дидона и Эней» в памяти и творчестве поэта / Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба. С. 76.
Источник: http://magazines.russ.ru/slo/2001/2/semen.html
Опубликовано в журнале: «Знамя» 1998, № 12Мемуары
Иосиф Бродский
Памяти Стивена Спендера
I
Через двадцать три года диалог с иммиграционным служащим в аэропорту Хитроу предельно краток. “Деловая или увеселительная?”
“Как вы назовете похороны?”
Он пропускает меня, махнув рукой.
II
Двадцать три года назад его предшественник разбирался со мной около двух часов. В сущности, то была моя вина. Только что покинув Россию, я направлялся через Лондон в Соединенные Штаты с приглашением на поэтический фестиваль. Паспорт заменяла мне транзитная виза в огромном коричневом конверте, выданная американским консульством в Вене.
Кроме естественного беспокойства, ожидание было для меня крайне неприятным из–за Уистана Одена, с которым я прилетел из Вены в одном самолете. Пока таможенники изучали коричневый конверт, я видел, как он ходил взад–вперед за барьером в состоянии нарастающего раздражения и даже пытался заговаривать то с одним из них, то с другим, нарываясь на замечания. Он знал, что в Лондоне у меня никого нет, и не мог оставить меня одного. Я чувствовал себя ужасно хотя бы уже потому, что он был вдвое старше меня.
Когда, наконец, мы вышли в зал, нас встретила потрясающе красивая дама, высокая и, право же, с королевской осанкой. Она расцеловала Уистана и представилась: “Наташа. Надеюсь, вы не откажетесь у нас остановиться. Уистан тоже будет жить у нас”. И когда я забормотал что–то, путаясь в грамматике, вмешался Оден: “Это жена Стивена Спендера. Говорите “да”. Они приготовили вам комнату”.
Затем мы ехали в машине. Наташа Спендер — за рулем. Очевидно, они все обдумали, возможно, обсудили по телефону, — несмотря на то, что я был для них чужим человеком: Уистан едва знал меня, а Спендеры еще того меньше. И все–таки... Лондонские предместья проносились за окном автомобиля, а я пытался читать вывески. Чаще других встречалась Bed and Breakfast (“постель и завтрак”). Я понимал отдельные слова, но, к своей выгоде, ввиду отсутствия глагола, не мог уловить их смысл.
III
Чуть позднее, вечером, когда втроем мы сидели за ужином, я старался объяснить Наташе (все время дивясь несоответствию ее прекрасных черт русскому имени, звучащему по–домашнему), что я не такой уж для них чужой. В России в моем распоряжении было несколько предметов из этого дома, привезенных мне Ахматовой из Англии, где она получила докторскую мантию в Оксфорде в 65-м году. То были две пластинки (“Дидона и Эней” Персела и Ричард Бёртон, читающий английских поэтов) и похожий на трехцветный флаг шарф какого–то колледжа. Их, как она сказала, передал для меня необыкновенно привлекательный английский поэт по имени Стивен Спендер.
“Да, — подтвердила Наташа, — она много говорила о вас. Вы были в тюрьме, и мы ужасно беспокоились, что вы замерзнете. Вот почему — шарф”.
Тут позвонили в дверь — и она пошла открывать. Меж тем я говорил с Уистаном, правильнее сказать, слушал его, поскольку мое знание грамматики оставляло мне не много инициативы. Хотя я и перевел кое–что с английского (в основном, елизаветинцев, а также какие–то современные американские стихи и несколько пьес), мои разговорные навыки в то время были минимальны. Говорил я примерно так: “содрогание суши” вместо “землетрясение”. Кроме того, речь Уистана из–за ее невероятной скорости и поистине трансатлантической оснастки требовала от меня значительного напряжения.
Когда я совсем потерял ее смысл, в комнату вошел долговязый, слегка сутулый седовласый господин с мягкой, словно извиняющейся улыбкой. Даже по своей гостиной он передвигался, скорее, с осторожностью новичка, чем с уверенностью хозяина. “Привет, Уистан”, — сказал он, и затем поздоровался со мной.
Не помню самих слов, но я был заворожен красотой их выговора. Казалось, будто все благородство, изящество, благовоспитанность и невозмутимость английской речи внезапно наполнили комнату. Словно зазвучали все струны инструмента. Для меня, с моим тогда нетренированным слухом, эффект был ошеломительным. Казалось, он был вызван сутулостью самого инструмента: вы чувствовали себя не слушателем музыки, а ее сообщником. Я посмотрел на присутствующих: никто не выразил удивления. Но сообщники никогда и не удивляются.
IV
Позднее, тем же вечером, Стивен Спендер, ибо это был он, отправился со мной в телестудию Би–Би–Си на выступление в прямом эфире для вечерних новостей. Двадцать три года назад появление в Лондоне кого–нибудь в моем положении еще считалось событием. Все вместе заняло два часа, включая поездку на такси туда и обратно. За эти два часа и в особенности в такси чары немного развеялись, поскольку говорили мы о практических вещах: о телеинтервью, о поэтическом фестивале, начинавшемся завтра, о моем пребывании в Англии. Вдруг разговор стал совсем простым: два человека обсуждали более или менее осязаемую материю. Я ощутил странное удобство в присутствии этого голубоглазого седого старика ростом под шесть футов, которого никогда дотоле не знал, и недоумевал, почему? Скорее всего, это чувство защищенности внушали мне его высокий рост и возраст, а также оксфордские манеры. А кроме того, в его мягкой неуверенности, граничившей с неловкостью и сопровождавшейся виноватой улыбкой, проступало что–то вроде понимания эфемерности и легкой абсурдности всего окружающего. Я сам не чужд этому чувству, поскольку оно — производное не вашего телосложения или темперамента, но вашего призвания. Одни обнаруживают это понимание больше, другие меньше. Есть такие, что вообще неспособны его скрыть. Судя по всему, и он и я принадлежали к последней категории.
V
В этом я склонен усмотреть основную причину нашей труднообъяснимой двадцатитрехлетней дружбы. Были и другие; некоторые из них я здесь назову. И все–таки, прежде чем продолжить, должен сказать, что если все нижеследующее выглядит слишком уж похожим на мемуары с моим чрезмерным присутствием в них, то происходит это потому, что считаю невозможным, по крайней мере сейчас, говорить о Стивене Спендере в прошедшем времени. Не собираюсь затевать солипсические игры, отрицая очевидное, — что его больше нет. Возможно, для меня это было бы не сложно, поскольку все эти двадцать три года мы виделись не часто и не более пяти дней подряд. Но то, что я думаю и делаю, переплелось в моем уме с жизнью и стихами его и Уистана Одена, так что в настоящее время воспоминания кажутся более уместными, чем попытка осознать свои чувства. Жить — то же, что цитировать, и когда вы что–то выучили наизусть, это принадлежит вам не меньше, чем автору.
VI
Несколько последующих дней я находился под их кровом, Спендеры и Уистан нянчились со мной самым мелочным образом от завтрака до ужина и ночной пижамы. Однажды Уистан пытался научить меня пользоваться английскими телефонными автоматами и был встревожен моей тупостью. Стивен попробовал объяснить мне схему лондонского метрополитена, но кончилось тем, что Наташа повсюду возила меня в своем автомобиле. Мы обедали в Cafй Royal, где некогда завязался их роман во время бомбардировок Лондона,— они забегали сюда перекусить в перерывах между налетами, пока официанты убирали осколки оконных стекол. (“Немцы бомбили нас, а мы спрашивали себя, когда к ним присоединятся русские самолеты. В 1940-м мы ждали русских бомбардировщиков со дня на день”.) Иногда мы обедали с Соней Оруэлл. (“1984” — не роман, — объявлял Уистан, — это исследование”.) Еще был ужин в Гаррик–клубе с Сирилом Конноли, чью книгу “Враги обещания” я читал всего несколько лет назад, и Энгусом Уилсоном, о котором ничего не слышал. Первый, седой и расплывшийся, был похож на русского; второй, в розовой рубашке, напоминал тропическую птицу. Разговор был мне непонятен, и я довольствовался наблюдением.
Такое со мной случалось тогда нередко, и чувствовал я себя иногда весьма неловко. Я объяснил это Стивену, но он, очевидно, верил в интуицию больше, чем в анализ. Как–то вечером они с Наташей взяли меня на званый ужин к епископу, где–то в южном Лондоне. Святой отец оказался, пожалуй, слишком разговорчивым, чтобы не сказать болтливым, слишком лиловым, чтобы не сказать фиолетовым, на мой неопытный взгляд. Тем не менее, еда была превосходной, как и вино, а на его табунок миловидных жеребцов, прислуживавших за столом, любо было посмотреть. После трапезы дамы удалились в соседнюю комнату, а джентльмены отдали должное портвейну и сигарам. Я оказался сидящим напротив Ч. П. Сноу, который принялся расхваливать достоинства и реализм прозы Шолохова. Мне потребовалось около десяти минут, чтобы произнести, прибегнув к подходящим словам из словаря ненормативной лексики Партриджа (дома в России в моем распоряжении был только первый том), подобающий ответ. Мистер Сноу и впрямь побелел как снег*; Стивен громко рассмеялся. На самом деле я метил не столько в розоватого беллетриста, сколько в фиолетового хозяина, чья лакированная туфля прижималась под столом к моему честному башмаку.
Я пытался рассказать об этом Стивену в машине, на обратном пути, но он только посмеивался. Было около полуночи. Когда мы въехали на Вестминстерский мост, он посмотрел в боковое стекло и сказал: “Они все еще заседают”. И мне: “Вы не устали?” Я ответил: “Нет”. — “Тогда зайдем”. Наташа остановила машину, мы вышли и подошли к зданию парламента. Поднялись по лестнице, вошли в большой зал и оказались перед скамьями в галерее. То была, по–видимому, палата общин, где в тот момент разгорались какие–то налоговые прения. Государственные мужи более или менее одинакового роста и телосложения поднимались, произносили пылкие тирады и усаживались, чтобы вскоре подняться вновь. Стивен пытался шепотом объяснить мне смысл происходящего; и все–таки оно оставалось для меня почти непроницаемой, загадочной пантомимой. Некоторое время я сидел, рассматривая балки и витражи. То был я, лицом к лицу с заветным идеалом моей юности, и близость эта казалась мне ослепительной. Беззвучный смех сотрясал меня. Внезапно открылось несоответствие между моей духовной и физической реальностью: пока последняя восседала на зеленом кожаном сиденье в самом сердце Вестминстера, первая, так сказать, волочила ноги где–то за Уральским хребтом. Прощай, раздвоение, — подумал я и посмотрел на Стивена. Его доверие интуиции мне пригодилось.
VII
Международный поэтический фестиваль был большим, несколько беспорядочным мероприятием, проходившим на правом берегу Темзы в Куин–Элизабет–холле. Мало что на свете отвратительнее соединения нищеты и бетона, разве что соединение бетона и фривольности. С другой стороны, все это подходило к творящемуся внутри. Так, западные немцы в соответствии с духом места продвинули верлибр еще на шаг вперед, тем самым восстановив язык жестов; помню Уистана, мрачно говорящего на экране монитора, что стоял за сценой: “Не за это вам платили деньги”. Деньги были ничтожные, но то были первые фунты, заработанные мной, и я чувствовал возбуждение, кладя в карман практически те же банкноты, которыми пользовались герои Диккенса и Конрада.
Церемония открытия происходила на последнем этаже высотного здания где–то на Пол–мол, кажется, называвшегося Нью–Зиланд–хаус. Сейчас, когда пишу это, я разглядываю фотографию, сделанную в тот день: Стивен говорит что–то смешное Уистану, тот смеется, а мы с Джоном Ашбери смотрим на них. Стивен много выше всех нас, — нежность угадывается в его лице, обращенном к Уистану, который так весел, руки у него в карманах. Их взгляды встретились; их дружбе уже сорок лет, они рады друг другу. Ах, этот невыносимый смех на фотографиях! Это все, с чем остаешься, — с застывшими мгновениями, украденными у жизни, без предвидения куда большего грядущего похищения, которое превратит вашу добычу в источник абсолютного отчаяния. Сто лет назад были избавлены хотя бы от этого.
VIII
Стивен читал в другой вечер, отдельно от нас с Уистаном, и меня не было на его выступлении. Но я знаю, что он читал, поскольку он дал мне свое “Избранное”, когда вернулся с того вечера. Несколько стихотворений там помечены им в оглавлении, так делаем все мы перед выступлением. Это было то же издание, что подарил мне в России английский студент, приехавший по обмену, и я знал его достаточно хорошо, чтобы заметить, что мои любимые “Воздушный налет на Плимут” и “Полярное исследование” не были отмечены. Кажется, я спросил его, почему, хотя отчасти мог предвидеть ответ, так как оба стихотворения были довольно старыми. Возможно, по той же причине не помню, что он сказал. Помню только, что разговор быстро перешел к “Рисункам из бомбоубежища” Генри Мура в лондонском метро, и Наташа нашла старый потрепанный альбом в мягкой обложке, который я взял, чтобы получше разглядеть перед сном.
Конечно, он заговорил о рисунках Мура, поскольку я упомянул стихи о воздушном налете. Они поразили меня в моем предыдущем русском воплощении (несмотря на мой слабый английский) переходом своей яркой, как прожектор ПВО, образности от зрения к прозрению. Я думаю, что стихотворение во многом обязано посткубистическим (в России мы называли это конструктивизмом) картинам в духе Уиндама Льюиса. Надо ли объяснять, что прожекторы — составная часть моего детства, одно из первых ярких воспоминаний. И по сей день, когда вижу римские цифры, — тут же вспоминаю ночное небо военного времени над родным городом. Наверное, я сказал об этом Стивену — и тут же появился небольшой альбом Генри Мура.
IX
Никогда не узнаю, была ли то обычная перемена темы в разговоре или часть интуитивной работы Стивена с моей непросвещенной душой. В любом случае, впечатление от рисунков было потрясающим. Я видел немало репродукций работ Мура: все эти лежащие навзничь дегенераты поодиночке или скопом. В основном, на открытках, хотя держал в руках и несколько каталогов. Также достаточно наслышан о доколумбовом влиянии, органических формах, оппозиции пустое—полное и т.д. и не очень–то был захвачен этим. Общеизвестные потуги современного искусства, спекуляции на беззащитности.
“Рисунки из бомбоубежища” имели мало общего с современным искусством и очень много — с защищенностью. Если серия имела какие–то корни, это, вероятно, была “Агония в саду” Мантеньи, Мур, по–видимому, тоже был одержим любовью к эллипсам, и бомбардировка Лондона дала ему ощущение светопреставления. Все это происходит в “подземке” во всех смыслах этого слова. Потому и нет летящего ангела, несущего чашу, хотя “Да минует нас”, очевидно, у всех на устах. Перефразируя Уистана, “Рисунки из бомбоубежища” не графика, а исследование. В форме эллипсов, — от спеленутых тел на платформах до станционных сводов. А также исследование покорности, поскольку тело, сведенное к своим обобщенным очертаниям в поисках защиты, не забудет своей согбенности и уже не выпрямится полностью. Если вы однажды согнулись в покорности перед страхом, участь вашего позвоночника предрешена: вы будете сгибаться снова и снова. С точки зрения антропологии война ведет к регрессу, если вы, конечно, не дитя, малое и неразумное.
Именно таким был я, когда Мур занимался своим исследованием эллипсов, а Стивен — прожекторов. Рассматривая рисунки, я вспомнил превращенную в бомбоубежище крипту Преображенского собора в Ленинграде, с ее сводами и спеленутыми телами, моим и моей матери — среди них. Тогда как снаружи “Параллели, параллелограммы, треугольники / Кто–то мелом в небе начертил, — / Как на школьной аспидной доске...” Если так дальше пойдет, — сказал я себе, листая лихорадочно исписанные карандашом страницы, — я смогу вспомнить даже свое рождение, даже время, предшествовавшее ему; смогу даже, чего доброго, стать англичанином.
й Royal в Лондоне, куда я настоятельно приглашаю его и Наташу на ланч каждый раз, как приезжаю в Англию. Во имя их воспоминаний так же, как и моих. Поэтому затрудняюсь назвать год, но, скажем так, не слишком давно. С нами Исайя Берлин и моя жена, не сводящая юного взгляда с лица Стивена. И действительно, с этими снежно–белыми волосами, сияющими серо–голубыми глазами и извиняющейся улыбкой при его росте в шесть футов он выглядит на девятом десятке как аллегория благоволящей зимы в гостях у других времен года. Даже в кругу коллег или семьи, не говоря уже о посторонних. А сейчас к тому же еще и лето. (“Что хорошо здесь летом, — однажды сказал он, откупоривая бутылку в своем садике, — так это то, что не нужно охлаждать вино.”) Мы составляем список “великих писателей столетия”: Пруст, Джойс, Кафка, Музиль, Фолкнер, Беккет. “Но это только до пятидесятых, — говорит Стивен и обращается ко мне. — Есть ли сейчас кто–нибудь им под стать?” — “Возможно, Джон Коэтзи, — говорю я, — южноафриканец. Он единственный, кто имеет право писать прозу после Беккета”. — “Никогда о нем не слышал. Как пишется его имя?” Я беру листок бумаги, пишу имя, добавляю название: “Жизнь и эпоха Майкла К.” и передаю его Стивену. Затем разговор скатывается на сплетни: обсуждается недавняя постановка моцартовской оперы “Так поступают все”, с певцами, исполняющими арии, лежа на сцене, а также последнее награждение титулами, — в конце концов, среди присутствующих два сэра. Вдруг Стивен широко улыбается и говорит: “Девяностые — подходящее время, чтобы умереть”.
X
Что–то в этом роде стало происходить с тех пор, как мне в руки попала в издании Penguin антология “Поэзия тридцатых”. Если вы родились в России, тоска по иному бытию неизбежна. Тридцатые годы были по соседству, поскольку родился я в сороковом. Что делало еще более близким данное десятилетие, так это его закопченный монохромный состав, главным образом благодаря газетному шрифту и черно–белому кино: мои родные места оставались такими еще долгое время после вторжения кодака. С Макнисом, Оденом и Спендером (называю имена в порядке моего знакомства с их стихами) я сразу почувствовал себя как дома. Не по причине их нравственных идеалов, поскольку мой противник был куда более внушительным и повсеместным, но в силу их поэтики. Она раскрепостила меня, помимо всего прочего, ритмически и строфически. После “Музыки для волынки” старый добрый трехсложник в четверостишиях казался, по крайней мере на первый взгляд, менее соблазнительным. Еще я находил безумно привлекательной их общую способность удивленно взглянуть на привычное.
Зовите это влиянием; я назвал бы это сходством. Примерно с двадцати восьми лет я рассматриваю их, скорее, как своих родственников, нежели учителей или воображаемых друзей. Они были моей духовной семьей в большей степени, чем кто–либо из моих современников в России или вне ее. Спишите это на мою незрелость или замаскированный стилистический консерватизм. Или на тщеславие: некое детское желание быть судимым по иноземному кодексу совести. С другой стороны, подумайте о возможности восхищаться издалека сделанным ими. Или о том, что чтение иноязычных поэтов выдает вашу потребность в поклонении. Бывают и более странные вещи: существуют же церкви.
XI
Я счастливо жил в этом духовном семействе. Англо–русский словарь толщиной в стену был, в сущности, дверью или, лучше сказать, окном, поскольку часто затуманивался, и требовалась некоторая сосредоточенность, чтобы разглядеть что–то сквозь него. Тем не менее, настойчивость окупилась, так как я имел дело с поэзией, а в стихотворении каждая строчка — выбор. Вы можете многое сказать о человеке по эпитету, который он выбирает. Я думал, что Макнис беспорядочен, музыкален, капризен, воображал его грустным и неразговорчивым. Думал, что Оден блестящ, решителен, глубоко трагичен и остроумен, представлял его полным причуд и колючим. Думал, что Спендер более лиричен и честолюбив, при всей его образности, чем первые двое, и несомненно модернист, но нарисовать себе его я не мог.
Чтение, как любовь; это улица с односторонним движением, и они не подозревали о происходящем. Оказавшись тем летом на Западе, я чувствовал себя посторонним. (Не знал, например, что Макниса уже девять лет как нет на свете.) В меньшей степени, пожалуй, по отношению к Уистану, написавшему предисловие к моему “Избранному” и, должно быть, понимавшему, что мое стихотворение “На смерть Элиота” опирается на его стихи “На смерть Йейтса”. Но несомненно — по отношению к Наташе и Стивену, что бы Ахматова ни рассказывала им обо мне. Ни тогда, ни на протяжении последующих двадцати трех лет мы со Стивеном не говорили о наших стихах. Не говорили также о его прозе “Мир внутри мира”, “Тридцатые и после”, “Отношения любви–ненависти”, “Дневники”. Сначала, полагаю, виновата в том была моя робость, усугублявшаяся елизаветинским словарем и нетвердой грамматикой. А затем мешали дорожная усталость при встречах, люди вокруг или дела поважнее, чем наши писания. Такие, как политика, газетные наветы или наш друг Уистан. Как–то с самого начала предполагалось, что у нас больше общего, нежели различий, как это бывает в семье.
XII
Помимо языковых различий, нас разделяла тридцатилетняя разница в возрасте, ум Уистана и Стивена, превосходящий мой, и личная жизнь, особенно Уистана. Различия эти могут показаться слишком большими, а в действительности они были не столь велики. Когда мы познакомились, я не подозревал об их отличии в интимных привязанностях; кроме того, им обоим было за шестьдесят. О чем я знал тогда, знаю сейчас и что не забуду до самой смерти — это их необыкновенный ум, равного которому я не встречал. Не это ли знание компенсирует мою интеллектуальную неуверенность, хотя и не преодолевает разницу? Что до их частной жизни, она попадала в поле зрения, думаю, как раз по причине их очевидного умственного превосходства. В тридцатые они были заодно с левыми, Спендер даже вступил в коммунистическую партию на несколько дней. То, чем занимается в тоталитарном государстве тайная полиция, в открытом обществе до некоторой степени — прерогатива ваших оппонентов и критиков. И все же объяснение ваших достижений вашей половой ориентацией, возможно, глупее всего на свете. В целом, определение человека как существа сексуального — чудовищная редукция. Хотя бы потому, что соотношение ваших сексуальных утех и прочих занятий, скажем, на службе или за рулем автомобиля, несопоставимо даже в годы вашего расцвета. Считается, что у поэта больше личного времени, но учитывая то, как стихи оплачиваются, следует признать, что его частная жизнь заслуживает меньше внимания, чем принято думать. Тем более, если он пишет на языке, так игнорирующем грамматический род, как английский. С чего бы тем, кто на нем говорит, так беспокоиться? Или их беспокойство как раз и вызвано безразличием языка к мужскому и женскому роду? Как бы то ни было, я чувствовал, что у нас больше общего, чем расхождений. Единственная разница, которую я не мог преодолеть, была возрастной. Что же до интеллектуального разрыва, то в лучшие минуты могу убедить себя, что приближаюсь к их уровню. Оставался языковой барьер, но я то и дело старался преодолеть его, не жалея сил, по крайней мере, в прозе.
XIII
Лишь однажды я прямо заговорил со Стивеном о его работе, — когда он опубликовал свой “Храм”. К тому времени, должен признаться, романы перестали занимать меня, и я бы не затеял этого разговора, если бы книга не была посвящена Герберту Листу, замечательному немецкому фотографу, в чью племянницу я был когда–то влюблен. Обнаружив посвящение, я прибежал к нему с книгой в зубах, — кажется, дело происходило в Лондоне, — победоносно объявив: “Смотрите, мы породнились!” Он устало улыбнулся и сказал, что мир тесен, особенно Европа. “Да, — сказал я, — мир тесен, и никто следующий ничего к нему не прибавляет”. “И следующий раз — тоже”, — добавил он; что–то в этом роде. А затем спросил, действительно ли мне понравилась эта вещь. Я сказал, что, по–моему, автобиографический роман — терминологическое противоречие, что он скрывает больше, чем обнаруживает, даже если читатель дотошен. Что для меня, во всяком случае, автор проступает в героине романа явственнее, чем в его герое. Он ответил, что это во многом связано с интеллектуальной атмосферой того времени вообще и с цензурой в частности, и что ему, возможно, следовало бы переписать все заново. Я запротестовал, говоря, что маскировка — мать литературы, а цензура может претендовать на отцовство, и нет ничего хуже потуг прустовских биографов доказать, что Альбертина на самом деле была Альбертом. “Да, — сказал он, — их перья движутся в направлении, диаметрально противоположном авторскому: они распускают пряжу”.
XIV
Вижу, как сюда просачивается прошедшее время, и спрашиваю себя, следует ли мне с ним бороться. Он умер 16 июля; сегодня 5 августа. И все же не могу думать о нем суммарно. Что бы я о нем ни сказал, все будет фрагментарно или односторонне. Определение всегда упрощение, и способность Стивена уклониться от него в восьмидесятишестилетнем возрасте неудивительна — тем более, что я застал только четвертую часть его жизни. Как–то проще сомневаться в собственном присутствии, чем поверить, что он ушел.
Не потому ли, что мягкость и благовоспитанность всего долговечнее? А в его случае они еще и самого прочного свойства, закаленные жесткой эпохой категорического выбора: или—или. По крайней мере, его манера держаться и в жизни, и в стихах была продиктована как выбором, так и темпераментом. Во времена маменькиных сынков человек, тем более писатель, позволяет себе быть жестоким, прямолинейным, вздорным и т.д. Во времена маменькиных сынков едва ли не приходится торговать чернухой и отбросами, поскольку иначе книга не раскупится. А когда у вас под боком Гитлер и Сталин, вы идете другим путем... Ох уж этот жестокий талант в мягкой обложке! Столь многочисленный и необязательный, по уши в деньгах. Одно это может заставить вас тосковать по тридцатым и закатить скандал современникам. В конечном счете, как в жизни, так и на бумаге, и в поступках, и в выборе эпитета имеет значение то, что помогает вам сохранить достоинство, а мягкость и благовоспитанность — помогают. Уже поэтому сделанное им жизнеспособно и осязаемо. И день ото дня ощутимей.
XV
Отвлекаясь от этих вычурных категорий (родство, духовное семейство и проч.), скажу так: мы неплохо ладили. Отчасти это связано с абсолютной непредсказуемостью его ума, склонного к парадоксам. С людьми он держался весело и изобретательно, не столько ради них, сколько потому, что был органически не способен ни к какой банальности. Избитая истина слетала с его уст только затем, чтобы оказаться полностью перевернутой в конце фразы. Однако он не пытался развлечь себя этим: просто его речь стремилась настичь непрерывно движущуюся мысль — и потому была непредсказуема для него самого. Несмотря на его возраст, прошлое редко служило темой для него, куда меньше, чем настоящее или будущее, о котором он любил поговорить.
До некоторой степени это было связано с его профессией. Поэзия — вечная школа сомнения и неуверенности. Никогда не знаешь, хорошо ли сделанное тобой, тем более — сумеешь ли сделать что–либо стоящее завтра. Если все это не разрушает вас, сомнение и неуверенность в конце концов становятся вашими ближайшими друзьями и вы едва ли не наделяете их самостоятельным умом. Вот почему, наверное, он проявлял такой интерес к будущему стран, людей, культурных тенденций, как будто пытался перебрать весь спектр возможных ошибок наперед: не с тем, чтобы в результате избежать их, а для того, чтобы получше узнать этих ближайших друзей. По той же причине он никогда не распространялся о своих прошлых достижениях и, кстати сказать, о неприятностях тоже.
XVI
Все это создает впечатление, что он был лишен честолюбия, свободен от тщеславия. И это впечатление, в основном, правильно. Помню, как однажды, много лет назад, я выступал вместе со Стивеном в Атланте, штат Джорджия. Это мы собирали деньги на “Путеводитель по цензуре” — журнал, который был его детищем и чье благополучие, как и проблемы самой цензуры, его волновали.
Нам предстояло провести полтора часа на сцене, и мы сидели за кулисами, шелестя бумагами. Обычно, когда выступают два поэта, один читает сорок пять минут без перерыва, затем второй. Произвести на публику внушительное впечатление: “считайтесь со мной” — такова идея. Но Стивен поворачивается ко мне и спрашивает: “Иосиф, почему бы нам не почитать по пятнадцать минут, затем поговорить с аудиторией (вопросы и ответы), а потом снова на полчаса — чтение. Так они не соскучатся. Как вы на это смотрите?” — “Замечательно”,— отвечаю я. Ибо это и впрямь было хорошо придумано, поскольку придавало всему предприятию развлекательный характер. К чему и должно сводиться поэтическое выступление, отнюдь не к самоутверждению. Это представление, своего рода театр, особенно если речь идет о сборе средств.
То была Атланта, штат Джорджия, США, где публика, даже благожелательная, не много смыслит и в своей–то американской поэзии, тем более в английской. А предложенная им процедура и вовсе не способствовала его репутации и продаже книг. Иначе говоря, он действовал, не заботясь о выгоде, и не читал ничего злободневного. Не могу представить себе кого–либо (особенно его ровесников), сознательно действующих себе в ущерб ради дела или в интересах публики. В зале присутствовало около восьмисот человек, если не больше.
“Полагаю, что американские поэты разваливаются на глазах, — говорил он, имея в виду серию самоубийств среди них, — поскольку ставки там столь велики. В Англии вам никогда так много не заплатят, и общенациональное значение исключается, хотя страна намного меньше”. Потом, усмехнувшись, добавлял: “Именно по этой причине”.
XVII
Не то чтобы он себя недооценивал, — но был просто по–настоящему скромен. Эта добродетель тоже, следует думать, определялась профессией. Если вы не родились с каким–нибудь органическим недостатком, поэзия, как ее сочинение, так и чтение, довольно скоро научит вас скромности, тем более если вы не только сочиняете, но и читаете. Покойники вас быстро поправят, не говоря уже о ваших коллегах–современниках. Сомнение на свой счет станет вашей второй натурой. Вы, конечно, можете быть защищены броней ваших притязаний, если ваши собратья по перу ничего не стоят, но если в студенческие годы вы знакомитесь с Уистаном Оденом, вашей самовлюбленности долго не продержаться.
После встречи с ним все усложняется: и жизнь, и писание стихов. Я могу ошибаться, но у меня сложилось впечатление, что Стивен отправлял в корзину куда больше, чем печатал. В жизни, однако, где ничего в корзину не выбросить, такая требовательность Стивена приводила к чрезвычайной изощренности и неусыпной трезвости, от чего немало натерпелся Уистан, впрочем, жертвой его не назовешь. Это сочетание изощренности и трезвости и делает вас джентльменом, если в этом сочетании преобладает все–таки изощренность.
XVIII
Стивен и был джентльменом среди, как правило, неотесанной литературной черни по обе стороны Атлантики. Он выпадал из своего окружения. И реакция черни и слева, и справа была предсказуема. Икс выговаривал ему за то, что он был пацифистом во время второй мировой войны, хотя, будучи освобожден от воинской службы по состоянию здоровья, он служил в пожарных частях, а быть пожарным во время бомбардировок Лондона совсем не то же самое, что быть профессиональным непротивленцем в любые времена. Игрек обвинял его в издании журнала в пятидесятые на средства ЦРУ, хотя Стивен отказался от редактирования Encounter, как только узнал об источнике денежных поступлений, и вообще почему эти люди, такие щепетильные по поводу денег ЦРУ, не дают свои собственные, чтобы удержать издание на плаву. Праведный Зет нападал на Стивена за то, что он объявил о своей готовности отправиться в пылающий Ханой, если ему оплатят авиабилет. Человек, живущий литературным трудом (около 30 книг, не говоря уже о многочисленных рецензиях), сообщает вам, как он зарабатывает на жизнь: лишних средств на реализацию своих убеждений у него нет; с другой стороны, ему не хочется утверждать свои принципы за счет ханойского правительства. X, Y, Z — это только конец алфавита. Любопытно, но вполне объяснимо, что упреки и нападки были чаще всего американского происхождения, т.е. поступали из страны, где этика теснее, чем где–либо, смыкается с наличностью. В целом, послевоенный мир представлял собой весьма грубый балаган, и Стивен время от времени играл в нем роль не ради цветов и аплодисментов, а, как это видится теперь, ради нравственного оправдания.
XIX
Замечаю, что эти воспоминания все больше походят на редакторскую колонку, и она начинает диктовать содержание. Это допустимо, но не в данных обстоятельствах. В данных обстоятельствах содержание должно определять форму, несмотря на то, что воспоминания всегда фрагментарны. Ибо такова наша жизнь в глазах наблюдателя. Так что позвольте мне закрыть глаза и увидеть: вечер в каком–то миланском театре лет десять или двадцать тому назад; полный зал, сверкание люстр, телевидение и т.д.; на сцене орава итальянских профессоров и литературных критиков, а также Стивен и я; все мы члены жюри какой–то большой литературной премии. Она достается в этот раз Джорджио Капрони, скрипучему, желчному восьмидесятилетнему поэту деревенского вида, немного похожему на Фроста. Старик неуклюже пробирается вдоль прохода и с трудом начинает карабкаться на сцену, бормоча что–то себе под нос. Никто не двигается; профессора и критики из кресел молча наблюдают за стариком, одолевающим ступени. В этот момент Стивен встает и начинает аплодировать, я следую его примеру. К нам присоединяется зал.
XX
Или пустынная, продуваемая ветром площадь в центре Чикаго, ночью, около двадцати лет назад. Мы вылезаем из автомобиля и направляемся под зимним дождем к какому–то гигантскому нагромождению чугуна и стальных тросов, тускло подсвеченных на пьедестале посреди площади. Это скульптура Пикассо; как выясняется, женская голова; и Стивен хочет рассмотреть ее сейчас, поскольку завтра утром он уезжает. “Очень по–испански, — говорит он, — и очень воинственно”. И внезапно ко мне придвигается 38-й год, гражданская война в Испании, на которую Стивен отправился, заплатив, полагаю, из своего кармана, поскольку то было последнее сражение за Град Справедливости на человеческой памяти, а не шахматная партия между сверхдержавами, и мы его проиграли, а затем все было обесценено побоищем второй мировой войны. Прошитая дождем и ветром ночь, промозглая и насквозь черно–белая. И высокий человек, абсолютно беловолосый, похожий на школьника, с руками, торчащими из рукавов старого черного пиджака, медленно огибает эти случайные куски металла, закрученные испанским гением в произведение искусства, напоминающее руину.
XXI
Или Caf
XXII
Ланч окончен, мы едем в одной машине, но на Стрэнд он просит таксиста остановиться, прощается с нами и исчезает в дверях большого книжного магазина, размахивая листком бумаги с именем Коэтзи на нем. Я беспокоюсь, как он доберется домой; затем вспоминаю, что Лондон он знает лучше, чем я.
XXIII
Кстати о фрагментарности: помню, как в 1986 году, когда “Челленджер” взорвался в воздухе над мысом Канаверал, я услышал не то по Эй–Би–Си, не то по Си–Эн–Эн голос, читающий стихотворение Стивена “Размышляя о тех, кто велик...” , написанное пятьдесят лет назад.
Их имена прославляет трава на лугах
Высокогорных, в соседстве со снегом и солнцем;
И облака, проплывающие чередой,
И ветерок, облака подгоняющий, славят
Их имена, — в этой жизни бороться за жизнь
Было призванием их, пламенели сердца,
Солнцем рожденные, жили под солнцем недолго,
Но свой автограф оставили здесь навсегда.
XXIV
По–моему, я рассказал ему об этом несколько лет спустя, и, кажется, он улыбнулся своей знаменитой улыбкой, выдававшей одновременно удовольствие, чувство всеобщего абсурда, свою частичную вину за него, сердечное тепло. Моя неуверенность объясняется тем, что не могу вспомнить обстановку, в которой происходил разговор. (Почему–то все время представляется больничная палата.) Что до его реакции, она и не могла быть иной: “О тех, кто велик” — самая затасканная, самая хрестоматийная вещь из всех им написанных, отвергнутых, ненаписанных, наполовину или полностью забытых и все же светящихся в нем несмотря ни на что. Ибо призвание так или иначе берет свое. Отсюда и свечение, остающееся на моей сетчатке, закрываю я глаза или нет. Отсюда же, я думаю, и его улыбка.
XXV
Человек — это то, что мы о нем помним. Его жизнь в конечном счете сводится к пестрому узору чьих–то воспоминаний. С его смертью узор выцветает, и остаются разрозненные фрагменты. Осколки или, если угодно, фотоснимки. И на них его невыносимый смех, его невыносимые улыбки. Невыносимые, потому что они одномерны. Мне ли этого не знать,— ведь я сын фотографа. И я могу зайти еще дальше, допустив связь между фотографированием и сочинением стихов, поскольку снимки и тексты видятся мне черно–белыми. И поскольку сочинение и есть фиксирование. И все же можно притвориться, что восприятие заходит дальше обратной, белой стороны снимка. А еще, когда понимаешь, до какой степени чужая жизнь — заложница твоей памяти, хочется отпрянуть от оскаленной пасти прошедшего времени. Кроме того, все это слишком смахивает на разговоры за спиной или на принадлежность к некоему торжествующему большинству. Сердцу следует постараться быть немного честней, если уж оно не может быть точнее, чем ваши глагольные окончания. Мог бы выручить дневник, записи в котором, уже по определению, держат прошедшее время на расстоянии.
XXVI
Итак, последний фрагмент. Так сказать, дневниковая запись за 20—21 июля 1995 года. Хотя я никогда не вел дневник, в отличие от Стивена.
Чудовищно жаркий вечер, хуже, чем в Нью–Йорке. Д. [друг семьи] встречает меня в аэропорту — и через 45 минут мы на Лудон–роуд. Ох, как хорошо я знаю цокольный этаж и расположение комнат этого дома! Первые слова Наташи: “Из всех людей он меньше всего подходил для этого”. А мне страшно подумать о том, чем были для нее эти последние четыре дня, чем будет эта ночь. Все это — в ее взгляде. То же самое относится к детям — Мэтью и Лизи. Барри [муж Лизи] достает виски и наливает мне в стакан. Выглядят все неважно. Почему–то говорим о Югославии. Я не мог есть в самолете, и сейчас тоже не могу. Тогда опять виски, и снова о Югославии. Здесь у них уже заполночь. Мэтью и Лизи предлагают мне ночевать либо в кабинете Стивена, либо в мансарде у Лизи с Барри. Но М. заказала мне гостиницу, и меня отвозят туда, это всего в нескольких кварталах.
Утром Д. отвозит нас всех в церковь Сент–Мери на Паддингтон–грин. Помня о том, что я русский, Наташа договаривается для меня о возможности увидеть Стивена в открытом гробу. Он выглядит хмурым и готовым ко всему, что бы его там ни поджидало. Я целую его в лоб и говорю: “Спасибо за все. Привет Уистану и моим родителям”. Помню больницу, его ноги, торчащие из–под халата, в синяках от лопнувших сосудов, напоминающие мне отцовские, хотя отец был старше Стивена на шесть лет. Нет, прилетел я в Лондон не потому, что не присутствовал при его смерти. Хотя это и могло быть причиной не хуже любой другой. И все–таки не потому. В сущности, увидев Стивена в гробу, я чувствую себя гораздо спокойнее. По–видимому, такой обычай имеет свои терапевтические свойства. Поразительно, как эта мысль похожа на Уистана. Он бы сюда пришел, если бы мог. Почему бы тогда и мне не быть здесь? И хотя мне не утешить Наташу и детей, я могу отвлечь их внимание. Мэтью завинчивает шурупы в крышку гроба. Он сдерживает рыдания, но они прорываются. Ему ничем не поможешь, и полагаю, помогать не следует. Это его сыновняя работа.
XXVII
Люди прибывают на службу и собираются у церкви маленькими группами. Я узнаю Валерию Элиот, и после некоторой заминки возникает разговор. Она рассказывает мне такую историю: в день смерти ее мужа Оден по радио читал некролог. “Хорошо, что это был Оден, — говорит она, — и все же я была несколько удивлена такой поспешностью”. А дальше она рассказывает, что спустя некоторое время он приезжает в Лондон, звонит ей, и выясняется, что когда на Би–Би–Си узнали о смертельной болезни Элиота, они позвонили Одену и попросили его записать в студии некролог. Уистан сказал, что он отказывается говорить об Элиоте в прошедшем времени, пока он еще жив. В таком случае, сказали на Би–Би–Си, мы обратимся к кому–нибудь другому. “Так что я был вынужден, сжав зубы, пойти на это, — объяснил Оден. И попросил у меня прощения”.
Затем начинается служба, настолько красивая, насколько бывают хороши дела подобного рода. Заалтарное окно выходит на прекрасное, залитое солнцем кладбище. Гайдн и Шуберт. Кроме того, пока квартет переходит на крещендо, я вижу в боковом окне люльку с рабочими, взбирающуюся на надцатый этаж соседней новостройки. Это кажется мне такой подробностью, которую Стивен не упустил бы и позднее рассказал. И во время службы совсем неуместные строки из стихотворения Уистана о Моцарте звучат в моем мозгу:
Отрадно рожденье того отмечать,
Кто боли земле не принес и вреда,
Но создал шедевры — и не сосчитать
Их все, и с кузиной шалил иногда,
О, стыд из–за нищенских тех похорон!
Такого на свете не будет, как он.
Выходит, что он все–таки здесь: не утешает, но отвлекает внимание. Полагаю, что его строки в силу привычки посещали мозг Стивена так же часто, как стивеновские — звучали в голове у Уистана. Теперь, в любом случае, они будут вечно тосковать по пристанищу.
XXVIII
Служба закончена, все собираются на поминки на Лудон–роуд в саду. Палящее светило, небо — застывшая голубая глина. Общие разговоры, сводящиеся к одному и тому же: “конец эпохи” и “какая прекрасная погода”. Все это напоминает суаре в саду скорее, чем что–либо другое. Возможно, именно таким способом англичане обуздывают истинные чувства, хотя на лицах некоторых читается смущение.
Леди Р. здоровается и замечает нечто в том смысле, что на всех похоронах думаешь неизбежно о собственных, не так ли? Я отвечаю — нет, и когда та выражает недоверие, объясняю ей, что в нашем деле учишься сосредотачивать внимание, когда сочиняешь элегии. Это передается вашим взаимоотношениям с реальностью. “Я хотела сказать, что внутренне желаешь прожить так же долго, как ныне усопший”, — маневрирует леди Р. Я улавливаю тут намек и направляюсь к выходу. Уже на улице сталкиваюсь с вновь прибывшей четой. Господин моих лет, который выглядит смутно знакомым (из какого–то издательства). Поколебавшись, мы здороваемся, и он говорит: “Конец эпохи”. “Нет,— хочу ответить я ему, — не конец эпохи. А жизни, которая была длиннее и лучше, чем наша с вами”. Вместо этого я изображаю веселую, по–стивеновски широкую улыбку, говорю “не думаю”, — и ухожу прочь.
Перевел с английского Дмитрий Чекалов
Источник: http://magazines.russ.ru/znamia/1998/12/brodc.html
Биография Бродского, часть 1 Биография Бродского, часть 2 Биография Бродского, часть 3
Cтраницы в Интернете о поэтах и их творчестве, созданные этим разработчиком: [ Музей Иосифа Бродского в Интернете ] [ Музей Арсения Тарковского в Интернете ] [ Музей Вильгельма Левика в Интернете ] [ Музей Аркадия Штейнберга в Интернете ] [ Поэт и переводчик Семен Липкин ] [ Поэт и переводчик Александр Ревич ] [ Поэт Григорий Корин ] [ Поэт Владимир Мощенко ] [ Поэтесса Любовь Якушева ]
Требуйте в библиотеках наши деловые, компьютерные и литературные журналы: [ СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ] [ МАРКЕТИНГ УСПЕХА ] [ ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА ] [ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ ] [ НОУ-ХАУ БИЗНЕСА ] [ БИЗНЕС-КОМАНДА И ЕЕ ЛИДЕР ] [ КОМПЬЮТЕРЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ] [ КОМПЬЮТЕРНАЯ ХРОНИКА ] [ ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ] [ БИЗНЕС.ПРИБЫЛЬ.ПРАВО ] [ БЫСТРАЯ ПРОДАЖА ] [ РЫНОК.ФИНАНСЫ.КООПЕРАЦИЯ ] [ СЕКРЕТНЫЕ РЕЦЕПТЫ МИЛЛИОНЕРОВ ] [ УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕМ ] [ АНТОЛОГИЯ МИРОВОЙ ПОЭЗИИ ]
ООО "Интерсоциоинформ"