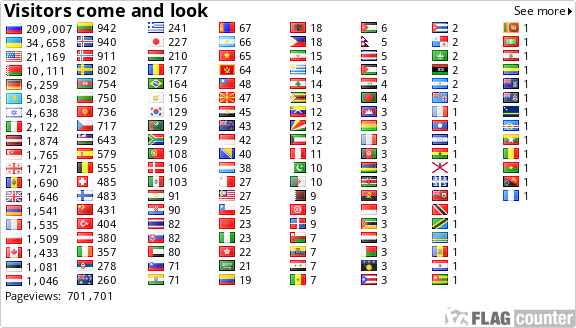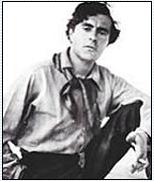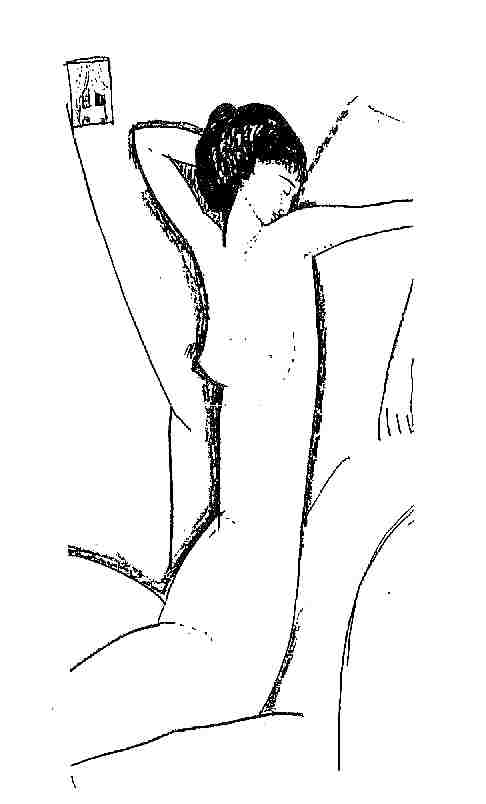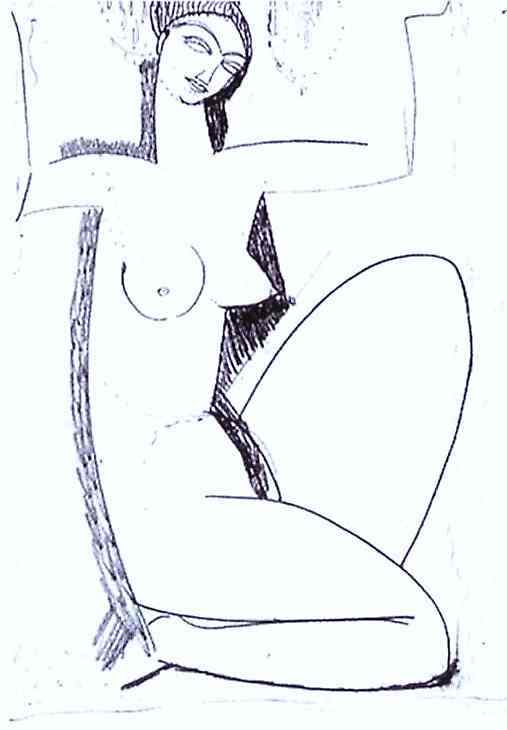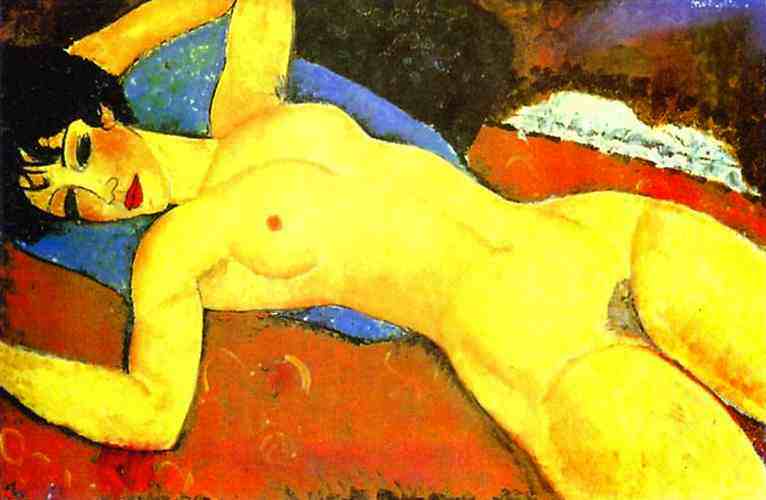Спорные страницы

Некое застолье - праздник для окружающих.
Атеросклероз - страшная, разрушительная штука.
Когда говорил с Тарковским об Ахматовой, он всегда плакал.
Половодье слов и чувств захлестывало его и до моих ушей долетал лишь слабый лепет: "Живое солнце... Она была... она могла... она сказала..."
Когда до меня наконец дошло, какого накала молнии полосуют в этот момент его ум, сердце, душу, то навсегда задушил эти расспросы.
Другой собеседник - С.В.Шервинский - указывал, что для Ахматовой время было как бы прозрачным и она могла с большой уверенностью
говорить о будущем - в частности, о памятнике себе, - чем повергала собеседников в ступор умственной тьмы, ложных запретов скромности и т.п.
Ахматова и Бродский - последние пять лет ее жизни.
Ниже - пятая главка; как летящая рыбка в Таиланде - женское любящее перо - о ее последних десяти годах.
Согласитесь, замечательно: "В молодости я больше любила архитектуру и воду, а теперь музыку и землю".
Несколько рисунков Ахматовой - как подать? Пришлось засунуть их в имеющиеся тексты. Все - ниже.
Аманда Хейт
Анна Ахматова
Поэтическое странствие
Глава пятая1956-1966
Все равно было бы странно писать
об Ахматовой обычную статью...
Л.Никулин, 19611
Последние десять лет жизни Ахматовой совсем не походили на все предыдущие годы. Вернулся наконец из заключения ее сын, сама она получила возможность печататься и даже участвовать в почетных церемониях, устраиваемых в ее честь за границей, но теперь ей уже приходилось превозмогать болезни и старческую немощь, чтобы завершить все то, что ей казалось важным успеть завершить при жизни.
Ее поэтический дар в это последнее десятилетие отнюдь не иссяк, но бил и пульсировал до самой смерти с неиссякаемой силой. Вынужденная постоянно заниматься изнуряющей ее переводческой работой, она все это время не прекращала писать и собственные стихи. В этот период созданы многие из лучших ее стихотворений: некоторые из них посвящены событиям прожитой жизни и людям, с которыми она была знакома, другие представляют собой размышления о вечных вопросах жизни и смерти. Несколько лет она еще дополняла и шлифовала "Поэму без героя". И до конца своих дней писала стихи о любви.
В шестьдесят семь лет, царственная и величавая, Ахматова казалась человеком, легко несущим бремя судьбы, и счастливой тем, что наконец-то дожила до такого дня, когда стала любима, если не всеми, то по крайней мере многими людьми, не только как поэт, но и как человек. И все же творческий импульс большинства ее поздних произведений рождался в тех особых отношениях с людьми, которые она всегда умела устанавливать и в которых черпала силу в трудные минуты: над этими отношениями время было не властно, и определялись они не столько частотой встреч и продолжительностью знакомства, сколько своей глубиной.
Летом 1956 года, когда она гостила у Ардовых после освобождения Льва Гумилева, ей позвонил Исайя Берлин, находящийся в Москве, и попросил ее о встрече. Ахматова отказала, испугавшись, что это может обернуться новым арестом сына. Их телефонный разговор и невозможность повидаться всколыхнули воспоминания об их знакомстве в 1946 году. Теперь единственной формой их общения могла быть "невстреча". В прекрасном цикле "Шиповник цветет", посвященном Исайе Берлину, эта "несостоявшаяся встреча", которая "еще рыдает за углом", будто придала Ахматовой силы вынести все, что бы ни уготовила ей судьба:Я шла, как в глубине морской..."Шиповник цветет" включает тринадцать стихотворений 1946, 1957 и 1963 годов и заключительное четверостишие, написанное в Риме в 1964 году, где Ахматова сопоставляет свой нынешний бурный век с временами римского императора Веспасиана:
Шиповник так благоухал,
Что даже превратился в слово,
И встретить я была готова
Моей судьбы девятый вал.
(I.229)И это станет для людейПриведенные строчки еще раз показывают, сколь твердо Ахматова верила в то, что встреча с Берлином из события личной жизни превратилась в достояние истории. Как ни парадоксально, но эта встреча, принесшая впоследствии ей столько неприятностей и вместе с тем дававшая силы справиться с ними, в то же время казалась Ахматовой проявлением исключительности ее судьбы и способности преодолевать ее превратности.
Как времена Веспасиана,
А было это - только рана
И муки облачко над ней.
(I.232)
Хотя многие стихотворения цикла были написаны после 1946 года, Ахматова дала всему циклу подзаголовок "Из сожженной тетради"191. И как ее встречи жили своей сверхъестественной жизнью, так и стихи в тетради словно наделены настоящей жизнью, и она разговаривает с ними, как с друзьями:Как ты молила, как ты жить хотела,В этом цикле яснее, чем где бы то ни было, раскрывается тот род духовных отношений, который был поддержкой для Ахматовой всю ее жизнь. Ибо это стихи не о некоем конкретном человеке, а о нетленности встреч с ним, что, как это ни парадоксально, делает ненужным их повторения. Ахматова словно сумела добыть из повседневности какой-то живительный эликсир, без которого сама повседневная жизнь была бы невыносима. Участники же этих встреч могли и не ведать, чем станут для Ахматовой их краткие встречи. Стихотворения названного цикла составляют часть более обширной группы, куда входят и стихи из "Белой стаи", посвященные Анрепу, и стихотворение, написанное в память о встрече с Чапским в Ташкенте, и любовная лирика последних лет жизни, в особенности "Полночные стихи", созданные уже в предчувствии скорой смерти. Они принадлежат описанному в "Поэме без героя" миру, в котором, невзирая на изгнание и смерть, ее не разлучить с Ленинградом и который противопоставлен миру обыденности.
Как ты боялась едкого огня!
Но вдруг твое затрепетало тело,
А голос, улетая, клял меня.
И сразу же зашелестели сосны
И отразились в недрах лунных вод.
А вкруг костра священнейшие весны
Уже вели надгробный хоровод.
(I.227)
В стихотворении, где идет речь о "невстрече", Ахматова пытается словами выразить то, что выразить невозможно, поскольку речь идет о том, чего не было и что, как в мандельштамовском мире безымянных предметов, не имеет названия:Таинственной невстречиИменно то, что их встреча обернулась "невстречей", и то, что суть была не в этом, и явилось еще одним подтверждением ее победы над судьбой.
Пустынны торжества,
Несказанные речи,
Безмолвные слова.
Нескрещенные взгляды
Не знают, где им лечь.
И только слезы рады,
Что можно долго течь.
Шиповник Подмосковья,
Увы! при чем-то тут...
И это все любовью
Бессмертной назовут.
(I.228)
В этом мире, противопоставленном повседневности, важную роль опять начинает играть сон. Ведь там могут происходить встречи, не состоявшиеся наяву:Черную и прочную разлукуСны, кроме того, могут предсказывать судьбу. В 1916 году, ожидая "суженого", Ахматова описывала предвестие его прихода: "Все обещало мне его: / Край неба тусклый и червонный, / И милый сон под Рождество, / И Пасхи ветер многозвенный..." (I.91) Теперь она пишет:
Я несу с тобою наравне.
Что ж ты плачешь? Дай мне лучше руку,
Обещай опять прийти во сне.
Мне с тобою как горе с горою...
Мне с тобой на свете встречи нет.
Только б ты полночною порою
Через звезды мне прислал привет.
(I.228)Был вещим этот сон или не вещим...Даже реальность приобретает черты сновидения:
Марс воссиял среди небесных звезд,
Он алым стал, искрящимся, зловещим, -
А мне в ту ночь приснился твой приезд.
Он был во всем... И в баховской Чаконе,
И в розах, что напрасно расцвели,
И в деревенском колокольном звоне
Над чернотой распаханной земли.
(I.229)Живу, как в чужом, мне приснившемся доме,Встреча 1946 года, ставшая "всех бед... предтечей", произошла вопреки всему, что делало ее невозможной. Ибо отношения подобного рода существуют вопреки, а не благодаря привычному ходу жизни, а в конце концов и вопреки самой смерти. И строятся они исключительно на способности подняться над так называемой действительностью и познать невозможное в кругу таких же "душ у предела света" (I.228). Резким контрастом встает повседневное:
Где, может быть, я умерла,
Где странное что-то в вечерней истоме
Хранят для себя зеркала.
(I.231)Мы встретились с тобой в невероятный год,И все же Ахматова остается честной до конца. Она знает, что никто, даже ее гость, не может ей помочь преодолеть повседневность. Только сама она может это пережить. "И время прочь, и пространство прочь... / Ho и ты мне не можешь помочь" (I.227), - пишет она. Но и быть такой, какой ее вообразил себе посетитель, она не согласна: "Ты выдумал меня. Такой на свете нет, / Такой на свете быть не может" (1.230). Указание на священный характер такого рода встречи можно найти и в стихотворении, посвященном Чапскому в 1959 году. Их встреча словно имеет свое независимое вечное существование и может возвращаться во сне. Она тоже происходит во тьме и, подобно той "невстрече", становится "встречей-разлукой". Поэт и его спутник, идущие по ночному Ташкенту, движутся как бы в другом измерении (I.245).
Когда уже иссякли мира силы,
Все было в трауре, все никло от невзгод,
И были свежи лишь могилы.
Без фонарей как смоль был черен невский вал,
Глухая ночь вокруг стеной стояла...
Так вот когда тебя мой голос вызывал!
Что делала - сама еще не понимала.
(I.230)
2
Ахматова с некоторой иронической отстраненностью наблюдала за своей реабилитацией в советской критике, медленно, но верно возводившей ее в ранг официально признанного поэта. Хотя Сталин умер в 1953 году, лишь после выступления Хрущева на XX съезде партии в 1956 году стали происходить реальные перемены. Имя Ахматовой несколько раз появлялось в печати уже не в отрицательном, хотя еще и не хвалебном контексте, и ее книга переводов из корейской поэзии, опубликованная в 1956 году192, была встречена благосклонно, правда, в одной рецензии, как она заметила, не было названо имя переводчика.
В том же году стихотворения Ахматовой были помещены в двух "оттепельных" альманахах - "Литературная Москва" и "День поэзии"193, и разгорелись споры о значении ее творчества. Стихотворение "Есть три эпохи у воспоминаний", опубликованное в "Дне поэзии", не тронуло сердце критика В. Огнева. "Сколько здесь слабодушного, холодного, опустошительного неверия в Жизнь, в ее созидающую силу!" - писал он194.
В рецензии на "Литературную Москву" Е.С.Серебровская противопоставляет эмигрировавшую Цветаеву Ахматовой, которая "ощутила глубокую связь своей судьбы с судьбой родины. Вот почему в 1942 году, в минуты самые тяжелые для нашей страны, она могла написать: "<...> Но мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово..." "Моя земля", - писала Ахматова, и в этом была ее сила. И не какие-то суфлеры, а собственная гражданская гордость учила ее, как отвечать бесцеремонным буржуазным гостям, приехавшим в Ленинград в поисках газетных сенсаций вскоре после постановления ЦК партии о "Звезде" и "Ленинграде"195. Патриотизм - что это такое? Для одних - всего лишь слово иноязычного происхождения, для других - основа всей их жизни, их главное чувство, от которого так или иначе зависят все остальные"196.
Именно благодаря своему патриотизму и верности отечеству Ахматова снискала уважение к себе многих людей, вовсе не любивших ее творчество или по крайней мере считавших ее чуждой по духу той литературе, какую они надеялись создать.
В мае 1957 года имя Ахматовой вновь возникло в связи с Цветаевой на III пленуме правления Союза писателей. А. Дымшиц, озабоченный раздутой славой некоторых поэтов, стремился закрепить их на отведенных исторических местах в русской литературе - Цветаеву, по его мнению, и так уже слишком возвысили. "Что же тогда делать с Ахматовой? - недоумевал он. - Ведь по сравнению с Цветаевой она неизмеримо выше. Цветаева - явление крошечное"197.
В 1958 году вышел в свет первый после смерти Сталина сборник стихотворений Ахматовой. "Стихотворения"198 - тоненькая книжка, включающая и некоторые переводы, - были изданы тиражом 25 тысяч. В короткой рецензии на эту книгу, помещенной в "Литературной газете", Л.Озеров явно опирается на более обширный, нежели представленный в сборнике, поэтический материал, хотя И старается подбирать такие примеры, которые и на взгляд самого строгого советского критика были бы безупречны. Он обращает внимание на тот факт, что в своем творчестве за последние пятнадцать лет, особенно в любовной лирике, Ахматова вела "разговор с современником". Ее стихи, по словам рецензента, это "<...> лирика преодоления одиночества, исповедь дочери века, понявшей, что путь одиночества и изоляции ведет художника к тяжелой драме". Ахматова, настаивал он, никогда не изменяла своей поэтике и интонации, но, как все истинные творцы, все время двигалась вперед по своему пути. "Можно говорить о сложности и напряженности ее большого творческого пути, - писал Озеров. - Но не замечать того, что это путь, - нельзя. По мере своих сил поэтесса стремилась найти путь к новому читателю. Это путь к современности, а не прочь от нее"199.
Стихи Ахматовой стали вновь печататься в газетах и журналах: четыре - в 1956 году, двадцать одно - в 1957, восемнадцать - в 1960, восемь - в 1962, двенадцать - в 1963, двадцать четыре - в 1964, семь - в 1965, хотя и не было еще полной ясности относительно ее официального статуса200. Через три года после появления сборника 1958 года в "Библиотеке советской поэзии" тиражом 50 тысяч вышло гораздо более полное собрание произведений Ахматовой "Стихотворения. 1909 - 1960", редактором и автором послесловия которого был А. Сурков201.
В отличие от Озерова, пытавшегося лишь осторожно убедить читателя в том, что более углубленное понимание творчества Ахматовой отвечает духу того времени, Сурков создал то, что можно было бы назвать универсальным рецептом реабилитации, наложив на жизнь и творчество поэта некую каноническую схему (подобно тому, как в ранние века христианства писались жития святых), которая, на его взгляд, должна была способствовать скорейшему признанию Ахматовой советским поэтом. Сурков обратил внимание на то, как непросто было Ахматовой принять революцию, которая, по его словам, не нашла отражения в ее творчестве. От эмиграции ее уберегло чувство патриотизма (он приводит в подтверждение строчки "Мне голос был"202). Неожиданно, продолжает Сурков, стихи Ахматовой зазвучали в унисон с послеоктябрьскими настроениями. После десятилетий невзгод и страданий Ахматова в войну начинает смотреть на мир новыми глазами (автор цитирует "Мужество"). Любовь к родине, уберегшая ее от соблазна эмиграции, теперь привела ее в ряды советских поэтов. Военные стихи Ахматовой" пусть порой в них говорит материнское горе, проникнуты гневом и верой в неизбежную победу, а не безнадежностью и отчаянием.
О событиях 1946 года Сурков упоминает лишь вскользь и довольно неуклюже: "В первый послевоенный год в стихах некоторых советских поэтов появились упадочнические нотки усталости и уныния. Коснулось это и Ахматовой. В ряде ее стихов зазвучало то, что казалось навсегда преодоленным. В 1946 году эта тенденция подверглась строгому общественному осуждению". Но такое положение, продолжает Сурков, вскоре изменилось, и в печати стали появляться стихи Ахматовой, созвучные военным стихам (он цитирует "Песню мира"). Последнее утверждение критика прозвучало горькой насмешкой для тех, кто знал обстоятельства написания всего цикла203: "Стихами, написанными за последние пятнадцать лет, Анна Ахматова заняла свое, особое, не купленное ценой каких-либо моральных или творческих компромиссов место в современной советской поэзии"204.
Хотя далеко не все стихи Ахматовой представлялись пригодными для немедленной публикации, в последние годы жизни никто не чинил ей преград на пути к читателю. Конечно, твердолобые сталинские критики вовсе не собирались признавать ее поэзию, но в литературном мире уже сплотилось прочное ядро ее поклонников, прилагавших все усилия, чтобы устранить любые препятствия, мешающие знакомству со все большим числом ее стихов, созданных за многие годы и пока существующих только в списках. Ее молчание отказ идти на компромисс, если только речь не шла о человеческой жизни, достоинство, с которым она сносила гонения, верность своей стране, вопреки всем испытаниям, и прежде всего то, что ее поэзия выжила и продолжала восхищать уже новое поколение читателей, - все это делало невозможным не замечать поэта. "Критика не раз заживо хоронила ее, - писал в "Дне поэзии 1966" Н. Рыленков, - как явление, давно отошедшее в прошлое, а она вдруг представала перед новыми поколениями как их современница"205.
А.Павловский, анализируя литературную полемику 20-х годов, писал в своей монографии о поэте, вышедшей в 1966 году: "...любовная элегия Ахматовой, сыгранная на засурдиненных скрипках, должна бы, по всем законам логики, затеряться и бесследно исчезнуть... Но этого не произошло"206.
"Я теперь успокоилась, - сказала Ахматова Надежде Мандельштам в 60-х годах. - Ведь мы узнали, до чего живучи стихи"207.
3
Зимой 1958 года, находясь после очередного сердечного приступа в санатории Академии наук в Болшеве, Ахматова начала писать воспоминания о Модильяни. Кроме того, она была очень озадачена хлопотами об издании книги своего сына об этногенезе Центральной Азии.
Поначалу после возвращения сына ее переполняло только ощущение счастья и облегчения. Однако очень скоро радость встречи стала омрачаться трудностями совместного существования. Лев Гумилев, которому сейчас было уже под пятьдесят, провел четырнадцать лет своей жизни в лагерях и тюрьмах только лишь потому, что был сыном своих родителей - Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Они с матерью были во многом очень схожи, что не способствовало мирному сосуществованию. Вырвавшись наконец на свободу, он жаждал жить своим умом. Мать, глубоко обиженная сыновней непочтительностью, тоже с не меньшим упрямством настаивала на своем. Начались частые и очень тяжелые ссоры. После одной из таких сцен у Ахматовой случился сердечный приступ. В конце концов Лев Гумилев переехал на другую квартиру. Они перестали встречаться. Ахматова, однако, очень гордилась своим сыном и превозносила его как ученого.
Потерю сына отчасти возмещало ей общение с молодежью. Ахматову крайне интересовало новое поколение. Она заметила, что повсюду появлялись молодые люди, наделенные качествами, которые редко можно было встретить в поколении их родителей. В Москве на шумной квартире Ардовых она с удовольствием участвовала в "пирушках" молодых: Алексея Баталова, Михаила и Бориса Ардовых и их друзей. Она часто приговаривала, что, мол, водка полезна сердечникам - расширяет сосуды. В Ленинграде ей приходилось жить по-прежнему в одной квартире с Пуниными, а в 1961 году они все переехали в дом на улице Ленина. Ахматова была очень привязана к своей воспитаннице Анне Каминской, которая пошла по стопам дедушки и матери - готовилась стать искусствоведом. Позднее Ахматова очень симпатизировала Аниному мужу Льву Зыкову и его брату Владимиру. Анины рисунки висели над ее кроватью.
В Ленинграде Ахматова особенно сдружилась с тремя молодыми поэтами: Анатолием Найманом, Иосифом Бродским и Дмитрием Бобышевым. Теперь, в это не столь суровое время, одни приходили к Ахматовой на поклон со своими стихами, и она выслушивала их и сама читала им свои стихи, другие приходили за советом или расспросить ее о тех, с кем она общалась в начале века, о тех, кто погиб на войне или в лагерях, то есть о людях, живую связь с которыми она собою являла208. И со всего Советского Союза шел поток писем с благодарностью за ее стихи, с благодарностью вообще за ее существование, с признаниями в том, что значила она для них в жизни. Для многих Ахматова и Пастернак были ярким примером того, что и в "Настоящем Двадцатом Веке" можно не потерять достоинства.
В эти годы у Ахматовой наконец-таки появился собственный дом, по крайней мере на лето. В писательском поселке в Комарове среди сосновой рощи была построена для нее небольшая дача, куда она переезжала, как только позволяла погода. В "будке", как она прозвала этот дом, ее опекали Лев Арене с женой. Аренс, брат первой жены Николая Пунина, великолепный старик с длинной седой бородой, с раннего лета ежедневно отправлялся на велосипеде купаться в холодном Щучьем озере, расположенном неподалеку.
Именно в Комарове принимала она обычно гостей из-за границы, и там же летом 1962 года на даче профессора Алексеева она встретилась с американским поэтом Робертом Фростом. Ф. Д. Рив209 так описал встречу двух пожилых поэтов.
"Прибыла Ахматова. Она появилась в темном платье, на плечи накинута бледно-сиреневая шаль, царственная и величественная, с седыми волосами и глубоким взглядом. Они с Фростом учтиво поздоровались. За столом Алексеев поднял тост за Фроста, а затем за Фроста и Ахматову вместе, говоря, что их встреча - крупное событие в литературе нашего времени... Мы сидели за столом в залитой солнцем гостиной, разговор с американских и английских писателей перекинулся на греческих и латинских классиков - темы, которыми и Ахматова, и Фрост, и Алексеев одинаково хорошо владели. Ахматова, Фрост и Алексеев, который был лет на двадцать моложе двух других собеседников, интеллектуально принадлежали к одному поколению. Ахматова и Фрост были признаны как поэты перед первой мировой войной. Восхождение их было долгим и неповторимым, и каждый из них пришел своим путем к одной вершине: они были ведущими поэтами своей страны, всей ее национальной литературной культуры и традиции..."
Ахматова прочла стихотворение "О своем я уже не заплачу", где говорится, как тяжело ей было видеть неудачи окружающих. "А затем, - продолжает Рив, - своим мягким, но волнующим и выразительным голосом она прочла стихотворение о "четырех сильных, страстных женщинах из мировой истории, свою страсть подчинивших служению своему народу, в который верили безгранично..."210 Ахматовское чтение тронуло всех нас. Все были настолько поражены прямотой стихотворения и жизненной силой и глубиной, понимания, в нем явленных, что некоторое время сидели молча, неподвижно. Плотная материя стиха, словно тень, накрыла комнату. Фросту запомнилось все это, запомнился и образ Ахматовой, ибо впоследствии он вспоминал, как величественна была она, но какой печальной казалась"211.
Связи с западным миром теперь заметно упростились, и через многих друзей и членов Союза писателей до Ахматовой доходило большинство из того, что писалось о ней за границей. Некоторые из этих публикаций доставили ей немало неприятных минут в конце ее жизни. Из-за того, что с 1925 года Ахматова более или менее постоянно была в немилости у властей, ее позднейшее творчество не стало предметом глубоких исследований у нее на родине. Да и биографических материалов о ней и Гумилеве в печати не появлялось. Зато некоторые ее заграничные знакомые, воспользовавшись практически полным отсутствием публикаций об обоих поэтах в Советском Союзе и разделяя характерное для эмигрантов убеждение, что Ахматова "одна из них", задумали писать мемуары. Хотя Ахматова не верила, что кто-нибудь может серьезно воспринимать первый из подобных опусов, крайне недостоверное повествование Георгия Иванова "Петербургские зимы"212, она понимала, что если не опровергнуть этого сейчас, то ее творчество и творчество ее первого мужа будет, всего вероятнее, восприниматься в свете этих искаженных "фактов". Особенно ее оскорбило описание поэтического вечера, на котором Вячеславу Иванову была приписана честь открытия поэтессы Анны Ахматовой. В своей записной книжке она описала все так, как это происходило на самом деле:
А в самом деле было так: Н.С. <Гумилев> после нашего возвращения из Парижа (летом 1910 года) повез меня к Вяч. Иванову.
Он действительно спросил меня, не пишу ли я стихи (мы были в комнате втроем), и я прочла: "И когда друг друга проклинали..." (1909. Киевская тетрадь) и еще что-то (кажется, "Пришли и сказали...")213, и Вячеслав очень равнодушно и насмешливо произнес: "Какой густой романтизм!"
Ахматову раздражала та неверная картина их отношений с Гумилевым, которая была дана в этих мемуарах. Про себя она там прочла, что была безумно влюблена в своего мужа, а тот считал, что ей не следует писать стихи, и, смертельно раня, развелся с ней. Как "доказательство" подобного отношения Гумилева к ней как к поэту часто приводят стихотворение 1914 года, в котором героиня слышит от своего друга, встретившегося ей на набережной, "что быть поэтом женщине - нелепость" (1.54). На это Ахматова возражает, что побеседовать со своим мужем могла бы дома за завтраком, и вовсе незачем идти для этого на набережную. Она все более убеждалась, что, как правило, все считали, будто ее ранние стихи до 1918 года посвящены Гумилеву. И ничего не было известно о том, что в течение десяти лет большая часть стихотворений Гумилева посвящалась ей214. В действительности Гумилев играл гораздо менее значительную роль в ранней поэзии Ахматовой, чем она в его творчестве, и прежде всего потому, что для нее пора самых глубоких отношений пришлась на период, предшествовавший браку, тогда как основная часть зрелых стихов Ахматовой появилась позже.
К публикациям, вызвавшим негодование Ахматовой, принадлежали и мемуары Сергея Маковского215, бывшего издателя журнала "Аполлон", на страницах которого появились ее ранние стихи. Мемуары были написаны в Париже незадолго до смерти автора, объявившего себя близким другом Гумилева. В письме Жоржу Нива, в чьем переводе на французский Ахматова впервые познакомилась с ними, она выразила свое возмущение их содержанием216. 20 июля 1963 года Нива писал в ответ: "Я крайне сожалею, что статья Маковского доставила Вам столько огорчений. Мне, конечно, понятны Ваши чувства при виде такого количества ошибок..." Ахматова пообещала ему написать об этих ошибках отдельное письмо, а Нива предложил опубликовать ее замечания, однако она так и не собралась этого сделать.
Не меньшее неудовольствие у Ахматовой вызвало предисловие Глеба Струве к I тому собрания сочинений Гумилева, вышедшего в Соединенных Штатах217. Новое издание Гумилева она сочла явлением положительным, но попытку строить его биографию на основе эмигрантских воспоминаний, когда в Советском Союзе покоился нетронутым богатейший и теперь уже вполне доступный западным исследователям материал о нем, она находила нелепой. Уже хотя бы потому, что тем самым возникало неверное представление, будто стихи Гумилева были популярны еще при жизни автора, а это, как она считала, приводило к искаженному пониманию его творчества как поэта и критика.
Так на закате жизни Ахматова, полагавшая, что сведения о личной жизни поэта несущественны для понимания его творчества, сама оказалась вовлечена в создание мемуарной литературы, выступив в этом жанре воспоминаниями о Модильяни и, главное, о Мандельштаме. Но, исполняя то, что, на ее взгляд, было ее долгом перед умершими и теперь рискующими быть превратно понятыми поэтами, как Гумилев и Мандельштам, или долгом перед живущими, как Найман и Бродский, и всеми теми, к которым она привлекала внимание читателей в своих интервью, Ахматова продолжала писать о самом процессе поэтического творчества и о Поэте. И подчас эти ее размышления облекались в весьма ироничную форму:Не повторяй - душа твоя богата -Способность не слишком серьезно относиться к своему призванию - свидетельство высокого профессионализма. Это не означает, что Ахматова своему ремеслу не знала цену, но скорее говорит о глубоком его понимании. В стихотворении, где Александр Македонский приказывает уничтожить Фивы, она вкладывает в его уста такие слова: "Ты только присмотри, чтоб цел был Дом Поэта" (1.248).
Того, что было сказано когда-то,
Но, может быть, поэзия сама -
Одна великолепная цитата.
(I.357)
В стихотворении "Нас четверо", написанном в 1961 году, взяв эпиграфом строчки из Мандельштама, Цветаевой и Пастернака, она вновь подчеркивает свою связь с поэтами "Настоящего Двадцатого Века". На смерть Пастернака за год до того она писала:Умолк вчера неповторимый голос,Смерть же тех немногих, кто дожил до этого дня, кажется теперь почти нереальной. В память о Валерии Срезневской, с которой она еще девочкой играла во дворе их дома в Царском Селе и с которой разделила самые ужасные минуты мрачнейших лет, Ахматова писала:
И нас покинул собеседник рощ.
Он превратился в жизнь дающий колос
Или в тончайший, им воспетый дождь,
И все цветы, что только есть на свете,
Навстречу этой смерти расцвели,
Но сразу стало тихо на планете,
Носящей имя скромное... Земли.
(I.252)Почти не может быть, ведь ты была всегда:В стихах этих лет Ахматова редко оглядывается на прошлое, а если и оглядывается, то скорее на дни ранней царскосельской юности, чем на ужасные времена, последовавшие за ними. В одном стихотворении 1958 года она называет себя "наследницей" Царского, в другом месте воссоздает период 90-х годов прошлого века. Прекрасное стихотворение - размышление о смерти - "Приморский сонет", написанное в Комарове, смыкает начало и конец жизни:
В тени блаженных лип, в блокаде и в больнице,
В тюремной камере и там, где злые птицы,
И травы пышные, и страшная вода.
О, как менялось все, но ты была всегда,
И мнится, что души отъяли половину,
Ту, что была тобой, - в ней знала я причину
Чего-то главного. И все забыла вдруг...
Но звонкий голос твой зовет меня оттуда
И просит не грустить и смерти ждать, как чуда.
Ну что ж! попробую.
(I.265)Здесь все меня переживет,Отношения с прошлым - тема главным образом "Поэмы без героя". Но в стихотворении 1960 года "Эхо" говорится о преданном забвению, но не дающем себя забыть прошлом, а в следующем году появляется предварившее "Реквием" четверостишие, в котором поэт пишет о том, что предпочел не покидать свою страну ради "чуждых небосводов", а оставаться со своим народом. Время подтвердило правоту выбора. В стихотворении "Родная земля", созданном в том же году, Ахматова берет эпиграфом свои собственные слова, сказанные о соотечественниках еще в 1922 году: "И в мире нет людей бесслезней, / Надменнее и проще нас" (I.257). Это стихотворение - своего рода ответ на цикл "Слава миру", ибо здесь она говорит о том, что чувства, которые люди питают к родной земле, не имеют ничего общего с напыщенными лозунгами расхожего патриотизма:
Все, даже ветхие скворешни
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет.
И голос вечности зовет
С неодолимостью нездешней,
И над цветущею черешней
Сиянье легкий месяц льет.
И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда...
Там средь стволов еще светлее,
И все похоже на аллею
У царскосельского пруда.
(I.240)В заветных ладанках не носим на груди,
О ней стихи навзрыд не сочиняем,
Наш горький сон она не бередит,
Не кажется обетованным раем.
Не делаем ее в душе своей
Предметом купли и продажи,
Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,
О ней не вспоминаем даже.
Да, для нас это грязь на калошах,
Да, для нас это хруст на зубах.
И мы мелем, и месим, и крошим
Тот ни в чем не замешанный прах.
Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно - своею.
(I.257)4
В 1963 году "Реквием" был опубликован в Мюнхене "без ведома и согласия автора"218. В конце того же года Ахматова приехала в Москву, чтобы подготовить к изданию еще один, более полный сборник стихотворений "Бег времени". Кроме того, она занималась переводами из Рабиндраната Тагора. Как обычно, она гостила поочередно то у одних, то у других своих друзей.
18 января 1964 года в Ленинграде ее юный друг и протеже Иосиф Бродский, не имевший постоянного места работы, был привлечен к суду по обвинению в "тунеядстве". На вопрос судьи, почему он не попытался выучиться на поэта в каком-нибудь высшем учебном заведении, Бродский ответил: "Я не думал, что это дается образованием... Я думаю, это... от Бога..."219. 13 марта состоялся второй этап этого судебного фарса, на котором в защиту юного поэта вместе со многими другими выступил профессор Адмони, с которым Ахматова сдружилась в Ташкенте. Бродский тем не менее был приговорен к пяти годам высылки из Ленинграда с обязательным привлечением к труду. Он был отправлен в деревню недалеко от Архангельска и первое время пребывал в тяжелом душевном состоянии.
Ахматова глубоко переживала то, что произошло с Бродским. Она убеждала друзей съездить навестить его и собирала деньги, чтобы приобрести вещи, которые могли бы скрасить его существование. При этом ее беспокоило, как бы нечто подобное не произошло и с Анатолием Найманом: пока он учился на Высших сценарных курсах в Москве, с официальной точки зрения, с ним было "все в порядке", но сразу после окончания учебы, не будучи членом Союза писателей, он мог оказаться в таком же уязвимом положении, как и Бродский. Находясь в постоянном нервном напряжении после ареста друга, Найман перенес в апреле серьезный сердечный приступ. И когда Ахматовой предложили переводить Леопарди, она, несмотря на все большее отвращение к переводческой деятельности, согласилась при условии, что eе соавтором будет Анатолий Найман, чью поэзию она высоко ценила.
Ахматовой была присуждена итальянская литературная премия, и в конце 1964 года она должна была приехать в Таормину (Сицилия) на церемонию вручения. К тому времени она завершила воспоминания о Модильяни и предоставила итальянцам возможность их опубликовать в преддверии предстоящего визита. В это же время шли разговоры о присуждении ей Нобелевской премии.
В июне она уехала в Комарове встречать свое семидесятипятилетие. Туда к ней съехалось много ее московских друзей. Лето стояло великолепное, она много гуляла по лесу с Ниной Ольшевской, заядлым грибником, и часто, что Ахматова особенно любила, разводила средь бела дня костер. Омрачало жизнь только отсутствие Иосифа Бродского, а в конце лета - смерть Валерии Срезневской. Осенью у Ольшевской, которая рядом с Ахматовой казалась вполне еще молодой женщиной, случился удар. Ахматова же надеялась, что та будет сопровождать ее в Италию. И вот в декабре в Таормину она поехала с Ириной Пуниной.
Впервые с 1912 года Ахматова оказалась за границей. На следующий год в Оксфорде она описывала Исайе Берлину Рим как место, где язычество все еще ведет войну с христианством. В Таормине, вполне в западноевропейском духе, премию ей вручал министр по туризму Италии. Ахматова вернулась в Россию крайне измученная и поехала отдыхать в Дом творчества в Комарове. В феврале она вновь приехала в Москву, на сей раз в составе ленинградской делегации на съезде писателей.
В это время произошел комичный в контексте всей ахматовской жизни случай. Молодой поэт, переписавший когда-то в свою записную книжку стихотворение Ахматовой, наткнулся на него спустя несколько лет и решил, что это его собственное. Внеся некоторые "исправления", он послал его в журнал "Октябрь", который и опубликовал его. Это было немедленно замечено, и Василия Журавлева обвинили в плагиате. Несчастный Журавлев принес свои извинения в "Известиях". Особенно стыдно ему было за свои поправки220.
В пространном интервью, появившемся в апреле 1965 года в журнале "Вопросы литературы"221, Ахматова воспользовалась случаем, чтобы сказать несколько теплых слов о собратьях-поэтах, и старшего, и молодого поколения, которые, на ее взгляд, не пользуются тем признанием, которого заслуживают222. Она проследила, чтобы имя Наймана стояло вместе с ее именем под переводом Леопарди. В течение стольких лет ее официально не признавали, держали в изоляции, и вот теперь, оказавшись в положении человека, способного хоть как-то помочь, она никогда не упускала такой возможности.
К этому периоду относится фраза, сказанная ею Анатолию Найману: "В молодости я больше любила архитектуру и воду, а теперь музыку и землю". В ее поэзии музыка и утешитель, и то, что ведет в иной мир:И музыка со мной покой делила,Теперь причиной разлуки должна стать смерть, и поэт еще отчетливей определяет то, что ей, смерти, не подвластно, - отношения, которые даже не требуют встреч.
Сговорчивей нет в мире никого.
Она меня нередко уводила
К концу существованья моего.
(I.382)
"Полночные стихи", написанные Ахматовой в конце жизни, образуют обособленный цикл стихотворений о любви. Любви, в mix воспеваемой, грозят не новые повороты судьбы, в лице историй, войны или революции, но тень надвигающейся смерти. Обычный разлуки - предвестники этого неизбежного последнего прощания, и во власти влюбленных преодолеть его, побеждая саму смерть. Расставание, быть может, даже легче вынести, чем встречу. И что невозможно на земле, может случиться в музыке или в общем для двоих сновидении.
В "Полночных стихах" все "суженые" поэта, чья любовь существует вне времени и пространства, сплавляются в пламени нынешней взаимной любви поэта и ее последнего возлюбленного. Словно найден последний недостающий осколок когда-то давно, в юности разбитого образа царевича. Он складывается из многих образов различных людей, но при этом это все-таки один образ, подобно тому как в "Поэме без героя" Мандельштам и Князев - две тени, слившиеся в одну. В четверостишии, первоначально предварявшем цикл, Ахматова так говорит об этом:Если бы брызги стекла,Как и прежде, в этой любви нет ничего земного. "Какое нам, в сущности, дело, / Что все превращается в прах..." - говорит поэт (1.237). В стихотворении "В Зазеркалье" этот иной мир странно и пугающе противопоставлен привычному миру отношений между ее возлюбленным и его женой:
что когда-то, звеня, разметались,
Снова срослись - вот бы
что в них уцелело теперь.
(I.382)Красотка очень молода,В этом мире слово обретает свое высшее значение:
Но не из нашего столетья,
Вдвоем нам не бывать - та, третья,
Нас не оставит никогда.
Ты подвигаешь кресло ей,
Я щедро с ней делюсь цветами...
Что делаем - не знаем сами,
Но с каждым мигом нам страшней.
Как вышедшие из тюрьмы,
Мы что-то знаем друг о друге
Ужасное. Мы в адском круге,
А может, это и не мы.
(I.237)И наконец ты слово произнесВ трех стихотворениях из сборника "Трилистник московский", написанных между 1961 и 1965 годами, затронута та же тема. Вновь речь идет о победе над разлукой:
Не так, как те... что на одно колено, -
А так, как тот, кто вырвался из плена
И видит сень священную берез
Сквозь радугу невольных слез.
(I.238)Услышишь гром и вспомнишь обо мне,Ахматова почти до конца прожила свою жизнь. И как бы ни было трудно, она старалась, сколько возможно, придерживаться строгих правил, налагаемых на нее той ролью, играть которую ей выпало, пока она "гостила на земле" (I.152). Устав от этой роли, просит она одного: способности радоваться жизни со всеми ее чудесами и прелестями:
Подумаешь: она грозы желала...
Полоска неба будет твердо-алой,
А сердце будет, как тогда - в огне.
Случится это в тот московский день,
Когда я город навсегда покину
И устремлюсь к желанному притину,
Свою меж вас еще оставив тень.
(I.235)Мне с Морозовою класть поклоны,Путь назад к ощущению прелести алой розы, путь к Раю устлан терниями грехопадения. Она побывала "по ту сторону ада" и вернулась с наградой: ключами от райских врат.
С падчерицей Ирода плясать,
С дымом улетать с костра Дидоны,
Чтобы с Жанной на костер опять.
Господи! Ты видишь, я устала
Воскресать, и умирать, и жить.
Все возьми, но этой розы алой
Дай мне свежесть снова ощутить.
(I.257)
"Поэмой без героя" Ахматова в каком-то смысле завершила свое поэтическое странствие. Стоя на позициях акмеизма и постигая через жизненный опыт глубины языка живых символов, она сумела найти место своей жизни не только в судьбе своей страны, но и во всей мировой литературе. Она с гордостью повторяла слова Виктора Жирмунского о том, что "Поэма без героя" - исполненная мечта символистов, то, что они проповедовали в теории, но никогда не умели воплотить в творчестве, Обращаясь в конце жизни к своему началу, она заново открыла для себя стихи Гумилева, написанные для нее и о ней, о девушке и женщине, и поняла, что он, символист, создавший теорию акмеизма, не только занимался теми же проблемами, но и отразил в своем творчестве ее образ, как тот живой символ, к которому она шла на ощупь почти всю жизнь.
Оглядываясь назад, Ахматова смогла увидеть, что Гумилев давным-давно "разгадал" ее, когда сама она имела еще лишь смутное предчувствие о том, что ждет ее впереди. Понимали ее и другие, но их признание и похвалы казались ей кошмарным видением счастья:И чем сильней они меня хвалили,Вчитываясь в стихотворения, которые Гумилев посвятил ей в юности, Ахматова поняла, что за его неистовой любовью стояла любовь к той царице, той девушке из "иного мира", от которой она пыталась отречься ради "настоящей жизни". Эта любовь толкала юного возлюбленного на самоубийства, когда она отказывалась выйти за него замуж, и тут же гнала прочь от семейных уз, едва они стали мужем и женой. В том, как Гумилев описывал ее в юности, Ахматова узнавала свою последнюю героиню, воплощение всего, чем она была и чем стала, и вообще всего, чем женщина может быть и может стать. От Марии, от ветхозаветных женщин Ахматова возвратилась назад к самому раннему женскому образу, стоящему у истоков иудейско-христианской культуры, - к Еве. В стихотворении 1908 года "Сон Адама" Гумилев рисует свою Еву то как святую, то как блудницу:
Чем мной сильнее люди восхищались,
Тем мне страшнее было в мире жить
И тем сильней хотелось пробудиться...
(I.260)То лунная дева, то дева земная,Быть может, в этой чуждости, в которой коренилась причина семейного разлада двух поэтов223, в то же время заключена и истинная причина гумилевской страсти. В 1921 году, вероятно имея в виду Гумилева, Ахматова писала:
Но вечно и всюду чужая, чужая.
(I. 158)Сказал, что у меня соперниц нет.Теперь, памятуя об этих строках, мы можем обратиться к опубликованному в 1964 году отрывку "Из трагедии „Пролог", или „Сон во сне"", который как бы содержит последнее слово поэта224. Он написан в форме диалога, в котором участвуют "он" и "она" и который сопровождается еще двумя главками: "Слышно издали" и "Песенка слепого"225. В процитированном выше стихотворении Гумилева жизнь после грехопадения предстает словно во сне, от которого в конце Адам просыпается и оказывается снова в Раю. Ахматова в элегии "И никакого розового детства..." тоже говорит о том, что мечтает пробудиться от сна своей жизни, но в "Поэме без героя" и в некоторых других произведениях именно во сне происходит общение с миром духовной любви. Вероятно, это как бы сон во сне наяву, подобно тому как во сне мы порой видим другой сон.
Я для него не женщина земная,
А солнца зимнего утешный свет
И песня дикая родного края.
(I.138)
В первой женской партии трагедии "Пролог" поэт говорит о своей бездомности: "Никого нет в мире бесприютней / И бездомнее, наверно, нет". Она - замогильный голос, звучащий в предрассветных сумерках. Тот, к кому она обращается, проник в ее последний сон. Она призывает его снова проклясть все простые радости жизни, которые она отстаивала:Проклинай же снова скрип колодца,И все же в этом проклятии ей чудится иное: слова, "что туже и хмельней объятий, / А нежны, как первая трава". Возможно, за этим отказом от радостей земных вновь стоит иная любовь - та, что испытывал Гумилев к царице, колдунье, падшей Еве, а не к женщина из плоти и крови, какой стала его жена. Когда говорит "он", мы узнаем голос падшего Адама, обращенный к падшей Еве:
Шорох сосен, черный грай ворон,
Землю, по которой я ступала,
Желтую звезду в моем окне,
То, чем я была и чем я стала,
И тот час, когда тебе сказала,
Что ты, кажется, приснился мне.
(I.234)Будь ты трижды ангелов прелестней,Эта битва происходит не в реальном мире, а в том ином - мире снов, поэзии, духа. Здесь Адам навечно связан с Евой и может вернуться в Рай только через искупление ее грехов, ибо из-за нее он был изгнан из Рая. И поэтому он не может жить ни с нею, ни без неб. Она все такая же чужая, но, лишь разгадав ее и вновь соединившись с нею, может он обрести свободу. Ему нужно убить ее, но только она - непадшая - может избавить его от себя. Он продолжает:
Будь родной сестрой заречных ив,
Я убью тебя моею песней,
Кровь твою на землю не пролив.
Я рукой своей тебя не трону,
Не взглянув ни разу, разлюблю,
Но твоим невероятным стоном
Жажду наконец я утолю.
(I.234)Оттого, что я делил с тобоюВерность Адама была колдовским зельем, которое поддерживало Еву. Как бы ни был ужасен мир, но и Рай неосознанный тошен. Рука возлюбленного ведет Еву, носящую во чреве убийцу-Каина, через бурные столетия, через сон жизни. На память приходят слова поэта о себе: "Услышишь гром и вспомнишь обо мне, / Подумаешь: она грозы желала..."
Первозданный мрак,
Чьей бы ты ни сделалась женою,
Продолжался (я теперь не скрою)
Наш преступный брак.
Мы его скрывали друг от друга,
От себя, от Бога, от конца,
Помня место дантовского круга,
Словно лавр победного венца,
Видел новобрачною во храме,
Видел и живою на костре,
Видел и побитую камнями,
И игрушкой в демонской игре.
Отовсюду мне в глаза глядела,
Отовсюду ты меня звала,
Душу мне и это тело
Ты как Богу жертву отдала.
Ты одна была моей судьбою,
Был я для тебя на все готов.
Боже! Что мы делали с тобою
Там, совсем в последнем слое снов.
Кажется, я был твоим убийцей
Или ты? Не помню ничего...
Римлянином, скифом, византийцем
Был свидетелем я срама твоего.
(I.391)
В главке "Слышно издали" снова говорится о той, "что познала и ужас и честь / Жизни загробной..." (I.235). Произносить ее имя - "смерти подобно", и последний совет Ахматовой всякому, кто отправляется в путешествие по жизни, вкладывается в уста слепого:Не бери сама себя за руку...Жизнь надо прожить, но быть человеком - значит также быть, слепцом. Иванушка из древней сказки достигает цели не умом или смекалкой, но простой верой и добротой. Путь к Раю лежит через новое обретение веры. И вера позволяет добровольно принять эту слепоту, как неотъемлемую часть человеческого существования. Но Рай безгрешный, и тем самым обесцененный, скучен. Только те, кто прошли свой путь до конца сквозь бурные столетия и увидели и познали все, могут туда вернуться. И тогда силы им придает сознание того, что все испытания были не напрасны. Вера не требует самоограничения и самобичевания. Она поддерживает человека в его слепых блужданиях, зная, что он будет спотыкаться...
Не веди сама себя за реку...
На себя пальцем не показывай...
Про себя сказку не рассказывай...
Идешь, идешь - и споткнешься.
5
Весной 1965 года Ахматова стала готовиться к поездке в Англию для получения почетного звания доктора литературы, которое присвоил ей Оксфордский университет. В мае она снова приехала в Москву. По настоянию врачей, считавших (как и перед поездкой в Италию), что путешествовать самолетом ей опасно, Ахматова отважилась ехать поездом и пароходом. С собой она собиралась взять Аню Каминскую. В Союзе писателей, по бюрократической оплошности, им вручили один билет через Остенде, а другой через Хукван-Холланд. С нужным билетом Аня Каминская появилась на вокзале лишь за несколько минут до отхода поезда. Если бы они поехали следующим поездом, то наверняка опоздали бы на церемонию в Оксфорде.
Впоследствии Ахматова описывала, как они путешествовали по "Европе в цвету". Она шутила, что это было нечто вроде путешествия из Москвы в Комарове через Оксфорд. Она плохо переносила дорогу. Вагонная тряска ее утомляла, и при ее грузности каждое движение требовало больших усилий. Она очень нервничала, опасаясь, как бы ее не подвело здоровье. Но о том, чтобы не ехать, и речи не было. Хотя у нее была въездная виза, но иммиграционный чиновник в Дувре придрался к тому, что при ней не оказалось письма с приглашением. Когда они наконец добрались до вокзала Виктория силы ее были на исходе, но с королевским величием она прошествовал по перрону под вспышками фотоаппаратов.
В Лондоне, спустя почти двадцать лет после роковой встречи в 1966 году, Ахматова вновь увиделась с Исайей Берлином. Когда они остались наедине, она сказала: "Раньше я была знаменита в России, но не за границей. Все это - Италия, Оксфорд... Ваших рук дело?" Берлин, несколько обескураженный ее верой в его могущество, отверг это предположение.
В Оксфорде, в Шелдонском театре, облаченная в алую докторскую мантию, Ахматова слушала приветственную речь на латыни, где она сравнивалась с Сафо. Одновременно с ней чествовали другого поэта, Зигфрида Сассуна. Потом, в номере отеля "Рэндолф", Ахматова, окруженная цветами, принимала посетителей, по одному или по двое сразу, как это обычно бывало в Москве и Комарове - каковое действо среди близких друзей называлось "ахматовка". Все коридоры гостиницы были заполнены говорящими по-русски. Они приехали отовсюду, чтобы посмотреть на торжество, а если возможно, повидаться с ней лично: друзья, которые покинули Россию еще в 20-е годы и даже раньше; исследователи ее поэзии или творчества ее современников; русские, для которых она была живой связью с их юностью и страной, куда им не суждено было вернуться.
Еще находясь в Оксфорде, Ахматова получила телеграмму из Швейцарии следующего содержания:
"Кембриджский Университет, Оксфорд, Англия, для Анны Ахматовой.
Сэр, если русская поэтесса - гость другого университета, прошу переслать по назначению. Примите мои поздравления в связи с сегодняшней церемонией. Я сын вашего брата Андрея и Марии Змунчиллы. Мама часто говорила о вас. Я бы очень хотел вас увидеть. Телеграфируйте место и время или, если возможно, приезжайте ко мне... С любовью и надеждой,
Андрей Горенко".
Ахматова послала своему племяннику, которого она никогда не видела, телеграмму с просьбой приехать в Лондон. Там они и встретились, удивительно похожие друг на друга внешне, но общавшиеся по-французски, так как Андрей Горенко по-русски не говорил.
В Лондоне Ахматова также повидалась со своей давней подругой Саломеей Гальперн, живущей теперь в особняке в Челси. Никогда не испытывая склонности к кулинарному делу, Ахматова была поражена умением своей подруги. "Саломея, когда ты научилась готовить?" - спросила она недоуменно. Та ответила, что посвятила свои таланты кулинарии, когда поняла, что уже достаточно побыла Музой. Ахматова описывала юную Саломею (тогда княгиню Андроникову) в стихотворении 1940 года:Всегда нарядней всех, всех розовей и выше,Все еще очаровательная, несмотря на прожитые годы, Саломея говорила, что не было никакого смысла спорить о том, кто она - ангел или птица. Она была и тем и другим.
Зачем всплываешь ты со дна погибших лет
И память хищная передо мной колышет
Прозрачный профиль твой за стеклами карет?
Как спорили тогда - ты ангел или птица!
Соломинкой тебя назвал поэт.
Равно на всех сквозь черные ресницы
Дарьяльских глаз струился нежный свет.
О тень! Прости меня, но ясная погода,
Флобер, бессонница и поздняя сирень
Тебя - красавицу тринадцатого года -
И твой безоблачный и равнодушный день
Напомнили... А мне такого рода
Воспоминанья не к лицу. О тень!
(I.202)
Желая избежать утомительных пересадок с поезда на пароход и обратно на поезд при пересечении Ла-Манша, Ахматова решила ехать спальным вагоном до Парижа и уже оттуда отправиться в Москву. В Париже она задержалась на несколько дней. Лондон ее нежданно удивил, но Париж во многих отношениях разочаровал. Это уже была не та элегантнейшая из всех мировых столиц, где они с Модильяни сидели на скамейке в парке и читали друг другу Верлена. Уличная толпа казалась безликой и могла с одинаковым успехом принадлежать и Лондону, и Риму, и даже Москве. А всякую элегантность в теперешнем Париже она находила претенциозной. Изменился и цвет города - его чистили.
Но если в Англии она встречалась с Саломеей Гальперн, Юрием Анненковым (который приехал туда из Парижа) и с друзьями более позднего призыва, каковым можно считать Исайю Берлина, то в Париже ей предстояло встретить людей, с которыми она была знакома в первые годы брака и которых она последний раз видела молодыми и красивыми. И теперь они вереницей потянулись к ней, эти старые, немощные, глухие и невероятно изменившиеся люди:
Ольга Оболенская226, С.Р.Эрнст, Дмитрий Бушен, вызвавший в памяти воспоминания о летних месяцах, проведенных в Слепневе, Георгий Адамович и Борис Анреп. Анреп не решался прийти с визитом, сознавая, что изменился до неузнаваемости. Но он был одним из тех, кого Ахматова более всего хотела видеть. В конце концов, ведь и она уже не та хрупкая высокая девушка с темной челкой и эффектной внешностью, какой была когда-то. Анреп признавался, что, когда он вошел в комнату, у него было чувство, будто он предстал перед Екатериной Великой. Ахматова, с одной стороны, ощущала комизм ситуации, с другой - словно исполняла некое глубоко символическое действо, что передавалось всем присутствующим, но что трудно было выразить словами. В Париже, помимо друзей юности, она встретилась с Юзефом Чапским, которого не видела с Ташкента.
В конце лета, вернувшись в Россию, она дала интервью Михаилу Ардову, которое было опубликовано в нескольких газетах, где она рассказала о своей поездке в Западную Европу, сравнив ее со своими заграничными путешествиями в начале века. Ей был задан вопрос о ее впечатлениях от Англии. "Мне показалась, что англичане гораздо милее и приветливее у себя на родине, чем в гостях, - ответила она. - От викторианской чопорности в них ничего не осталось. Что, впрочем, не удивительно - прошло шестьдесят лет". Ахматова воспользовалась этим интервью, чтобы сказать несколько слов в защиту людей, которые, на ее взгляд, заслуживали большего внимания в литературном мире; на сей раз речь шла о переводчиках- Она повторила то, что близкие друзья часто слышали от нее:
"Я свидетельница литературной жизни полувека. Такой молодежи; как выросла сейчас, я никогда не видела. Доброй, умной, смелой..."227
Лето, как обычно, Ахматова провела в Комарове. Погода стояла плохая, и она чувствовала себя усталой, не могла заставить себя выйти на прогулку. Найман, с которым она работала над переводами из Леопарди, уехал отдыхать в Эстонию. Но, как всегда, не иссякал поток посетителей - старых и молодых. Часто к ней заходил Виктор Жирмунский, академик, литературовед, тоже живший в Комарове. И почти каждый день со всей страны приходили письма от поклонников ее таланта. Опять пошли разговоры о Нобелевской премии. Ей приносили вырезки из зарубежных газет, в которых обсуждалась ее кандидатура. Поговаривали о новой поездке в Париж, но теперь уже в составе делегации советских поэтов. Ахматова отказалась. Такого рода путешествие было ей не по душе, к тому же заграничные поездки ее изрядно утомили.
Ранней осенью Ахматова переехала из Комарова в Москву. Вскоре по приезде у нее случился еще один сердечный приступ. Сначала ее состояние было очень плохим, но скоро она стала поправляться. Тем не менее на некоторое время ее поместили в больницу. Здесь она узнала радостную весть: Иосиф Бродский был освобожден. Но доходили и другие вести: шепотом рассказывали о суде над двумя писателями, которых обвиняли в том, что они передали на Запад свои произведения для публикации под псевдонимами: это были Андрей Синявский и Юлий Даниель. Однажды ей сказали, что ее желает навестить сын. Когда же выяснилось, что он передумал, Ахматова со свойственным ей великодушием решила, что он не пришел из опасения повредить ей слишком волнующей встречей.
В конце февраля 1966 года, выписавшись из больницы, она поселилась на квартире у Ардовых. Вместе с Ниной Ольшевской, которая все еще не могла оправиться после случившегося у нее год назад инсульта, они должны были поехать в подмосковный санаторий. Добирались они туда на машине. Ахматова в те дни читала сценарий фильма "В прошлом году в Мариенбаде"228, и едва она увидела здание санатория, тут же окрестила его Мариенбадом.
Утром 5 марта, в субботу, на второй или третий день после приезда, Ольшевская на несколько минут покинула комнату. Было время завтрака. Ахматова пожаловалась, что чай холодный. Когда Ольшевская вернулась, ее попросили не входить в комнату. Через несколько минут, после недолгой битвы за жизнь, Ахматова скончалась. По иронии судьбы это был день смерти Сталина, который она любила отмечать.
Тело поэта, прежде чем отправить в Ленинград, поместили в московском морге. Морг, как это ни удивительно, оказался при больнице, расположенной в здании старого Шереметевского дворца, на котором, как и на Фонтанном Доме, был изображен герб с девизом, прозвучавшим в "Поэме без героя": "Deus conservat omnia". Похоронные хлопоты осложнялись и затягивались из-за выходных дней и предстоящего праздника 8 Марта. Когда Иосиф Бродский с Владимиром Зыковым пришли на комаровское кладбище, чтобы найти место для могилы, могильщики были пьяны.
Ахматова просила, чтобы ее отпевали в Никольском соборе в Ленинграде. Здесь в боковом приделе и поставили гроб с телом, сотни людей пришли попрощаться с ней - кто-то в последний раз, но для большинства молодых людей это была одновременно первая и последняя встреча. Об официальной части похорон, проходившей в Союзе писателей, в еще одном дворце Шереметева, носящем девиз "Deus conservat omnia", сообщалось в газетах229. Однако присутствовавшим больше запомнились толпы людей, заполнивших церковь и близлежащие улицы. На пути в Комарове на несколько минут задержались в скорбном молчании у Фонтанного Дома. Затем самые близкие поездом и машинами поехали за город, чтобы увидеть, как ее тело будет предано земле среди соснового леса, ведущего к озеру.
Иосиф Бродский у гроба Анны Ахматовой.
Источник фотографии: фильм о Бродском "A Maddening Space"
file://localhost/F:/Сайты%20АНК/!%20Бродский%20а88%20и%20br00/!%20%20%20%20%20Фильмы%20о%20нем/a_maddening_space/brodsky_%20Joseph%20Brodsky%20•%20A%20Maddening%20Space.html
6
Из жизни, кажущейся на первый взгляд бессмысленной, жестокой и бесцельной, Ахматова сумела извлечь смысл, сумела увидеть в ней цель и обрести в ней веру. Западу потребовалась встряска атомной бомбой в конце второй мировой войны, чтобы хотя бы отчасти заставить людей понять, что ценности, оправдывающие применение такого оружия, могут обернуться уничтожением человеческого рода; в Советском Союзе безумие самоистребления в годы террора уже сорвало со многих последний покров успокоительных иллюзий, обнажив их собственный страх и неспособность существовать в обезумевшем мире. В 1939 году Ахматова написала:Все перепуталось навек,Ценности, ранее принимавшиеся на веру, подверглись проверке и были во многом отвергнуты, как ничему не соответствующие или просто несущественные. Личность, вынужденная искать ответа в себе, обнаружила, что полагаться можно как раз на то, чего ей следовало опасаться, как чего-то порочного, - на веление собственной совести, на собственное понимание добра и зла. Официальные ценности слишком часто оказывались ложными, слово, затасканное в лозунгах и пропаганде, стало проводником публичной лжи. Это становилось все очевидней по мере того, как за разваливающимся фасадом обнажалось то, что скрывалось за ним. Высокопарный бюрократический язык оказался пустым и несоразмерным тому, что он описывал, - настоящим утратам, пронзавшим сердца. И все же в этом море лживых, неточных, фальшивых печатных слов, скрывающих то, что происходило в реальном мире, где миллионы людей были расстреляны, где они сходили с ума или гибли в сибирских лагерях, подобно островкам существовали несколько небольших стихотворений женщины, понимающей, какой вес имеет слово для верности описания, для увековечивания и сообщения своего опыта другим. В них описано ее хождение по мукам без мелодрамы и жалости к себе. И тем самым она запечатлела то, что произошло с нею, - обретение смысла жизни у подножия Креста.
И мне не разобрать
Теперь, кто зверь, кто человек...
(I.191)
С детства Ахматовой были свойственны тягостные предчувствия, в тени которых и счастье воспринималось как мука. Но предвидение не делало ее жизненный путь легче. Напротив, она брела вслепую, постепенно убеждаясь, что если кто-то и ведет ее по лабиринтам жизни, то это Муза. Все же в ранней лирике в попытках понять самое себя видно, как разрывалась она между верностью Музе и желанием быть обыкновенной женщиной. Мало-помалу ей пришлось увериться, что лишь верность Музе даст ей силы жить. В то же время она начала постигать высший смысл того рода отношений, которым не страшна ни разлука, ни смерть, и поняла, что именно такой любви она страждет:Мне не надо ожиданийМного раз в жизни Ахматовой подвергалась испытанию ее возвышенная юношеская любовь к утонувшему царевичу. И в свете этой любви всякий обычный брак становился ошибкой, а всякий дом - пародией на дом вообще. Настоящим ее домом был Рай, сад ее отца, Китеж - вневременной мир, который она покинула, пускаясь в это путешествие во времени и в пространстве; жизнь, к которой она сможет вернуться, лишь совершив все то, что ей предназначено. Связь с этим миром происходит через поэзию, музыку, являющие собой творческий акт наречения имен всему сущему или даже акт воплощения, то есть облачения слов в плоть через исполнение своей роли в символической драме жизни. Поэт сам по себе только инструмент в руках высших сил:
У постылого окна
И томительных свиданий -
Вся любовь утолена.
(I.72)
"...просто продиктованные строчки / Ложатся в белоснежную тетрадь" (I.196). Но, как и для Дамы с острова Шалотт, которая ткет свое полотно, наблюдая мир отраженным в зеркале, эта бездомность на земле была проклятием, которое должен нести поэт и которое не позволяет ему, как всем другим, вести здесь на земле "настоящую" жизнь. Когда она оборачивается, чтобы воочию увидеть настоящую жизнь, зеркало разбивается, и хотя она не гибнет, как Дама с острова Шалотт, проклятие, над ней тяготеющее, переходит на все, с чем она сталкивается, - "смущает Двадцатый Век". Искусство было тем зеркалом, которое наполняло смыслом бессмысленное существование, это связь между мирами, приоткрывающая за видимым хаосом высшее предназначение и тем самым дающая силы перенести муки жизни. Искусство - это еще и средство претворения драмы жизни, возвращения Рая на землю. Поэтическое слово долговечнее всего и может преодолевать пределы времени и пространства. Ведь Муза наделяет поэта видением, и, нарекая имена, он устанавливает законы, становится законодателем. Не исполнить эту священную роль, безмолвствовать было бы постыдно.
В силу своего призвания Ахматова не только вынуждена видеть мир в зеркале, но и обречена петь об утратах, о трагедиях и разлуках. И если ей удалось превозмочь горести жизни, в которой она постепенно теряла все, ради чего, кажется, только и стоит жить, то лишь потому, что она осознала иллюзорность разлуки. Именно сознание, что где-то за пределами истории есть место, где могут происходить встречи, помогло ей в конце концов смириться без горечи с обстоятельствами своей биографии и даже испытывать гордость, если не благодарность, за то, что ей предназначена столь великая роль.
Ахматова увидела, что для тех, кто способен постичь глубины бытия, Распятие - самый величественный момент драмы жизни. Это не оправдание человеческой жестокости и слепоты, но скорее понимание, что Крест - это поворотная точка человеческого пути, отмечающая начало обратной дороги к Раю. Хотя она воспринимала себя уроженкой Китеж-града, сознавала свое вневременное начало и понимала, что рано или поздно ей суждено туда вернуться, это не означало отрицания земной жизни". Напротив, она знала, что именно эта драма и есть жизнь, и если временами она кажется бесцельной, то лишь из-за узости нашего видения мира. Чтобы жить "настоящей" жизнью, необходимо, как непременное условие, принять слепоту. Жить - значит спотыкаться, и если нам доведется прозреть, то лишь жертвуя этим "настоящим". Но, как спящая Ева, мы можем уповать на то, что нас проведет через бурные столетия рука возлюбленного.
Однако Рай - это не тот скучный Эдем, где не знают греха и страшатся познания. Туда попадают, свершив Крестный путь и добровольно сойдя в ад, повидав все то, что следует видеть, и познав все то, что следует знать. Чтобы понять, каков человек и каким он должен быть, необходимо знать, каким он быть не должен. Поэтическое слово, таким образом, призвано не только указать скрытую цель жизни, но и показать человеку его бесчеловечность к самому себе, нарисовать ему его собственный портрет с явными чертами вырождения. Никому не дозволено забыть оцепеневшие от страха и горя очереди у ленинградских тюрем или звериный вой старухи.
И поскольку Ахматова имела смелость указать человеку на его бесчеловечность, она могла тем самым возродить в нем человеческое. Приняв грехопадение как неотъемлемую часть Божественного замысла и поняв, что роль грешницы Магдалины не менее важна, чем роль Марии, она возвратила нашей земной жизни смысл - как раз то, чего так часто не хватает в христианских догмах, внушающих нам недоверие к нашим глубинным желаниям и отвращение к плоти. Сложившийся в XIX веке образ женщины походил на карикатуру, где ангелоподобная жена, чуть что падающая в обморок, противопоставлялась похотливой блуднице. Преодолев в себе этот раскол, Ахматова вернула женщине цельность, открыв священную природу любовной страсти и определив ее место в Божественном замысле.
Назначение поэта и законодателя, кому предначертано пройти ад, сродни задаче сказочного героя, который "исполняет тройное задание: добыв эликсир жизни, переносит сокровища из иного мира и исправляется сам"230. И лишь когда завершено путешествие в мир иной, начинается "настоящая" жизнь героя в нашем мире: "И стали они жить-поживать и т.д.", - звучит в финале.
Ахматова не призывала других непременно следовать в жизни ее примеру. Наоборот:Могла ли Биче, словно Дант, творить,Она прожила жизнь необычную. В этом было одновременно и ее величие, и ее трагедия. У нее была своя, единственная в своем роде цель, и к цели этой, однажды уже достигнутой ею, нет более нужды стремиться.
Или Лаура жар любви восславить?
Я научила женщин говорить...
Но, Боже, как их замолчать заставить!
(I.199)Но я предупреждаю вас,На сороковой день после смерти по православному обычаю на могиле покойного совершают службу. Когда умерла Ахматова, это было невозможно, потому что сороковины выпадали на Пасхальную седмицу. Близкие друзья и родственники поехали в Комарове положить цветы на ее могилу. Стояла капризная весенняя погода, и дорога на кладбище была занесена недавно выпавшим снегом. Отчетливо были видны на снегу чьи-то следы, значит, кто-то их опередил. И когда они подошли к могиле, стоявшая там женщина повернулась и ушла. Ее никто не знал. Это была одна из тех безымянных русских женщин в сером платке и телогрейке, которых так много в России.
Что я живу в последний раз.
(I.203)
Примечания
191 Возможно, речь идет о тетради, куда входили также стихи 1944 года, посвященные Гаршину, и которую, по словам Ахматовой, она сожгла. вверх
192 Корейская классическая поэзия. М., 1956. вверх
193 Литературная Москва. М., 1956. С. 537 - 539; День поэзии. М., 1956. С. 9. вверх
194 Огнев В. День нашей поэзии // 0ктябрь. 1957. № 2. С. 209 - 210. вверх
195 Серебровская, конечно, имеет в виду уже упоминавшуюся встречу С группой иностранцев из Оксфорда. вверх
196 Серебровская Е. Против нигилизма и всеядности // 3везда. 1957. № 4. С. 201. вверх
197 Дымшиц А. Самый жизненный вопрос // Лит. газета. 1957. 22 мая. № 61. Далее Дымшиц критикует П. Антокольского за то, что он похвалил Пастернака, и рассуждает о том, какой вред воспитанию молодежи нанес роман Дудинцева "Не хлебом единым". вверх
198 Стихотворения. М., 1958. вверх
199 Озеров Л. Стихотворения Анны Ахматовой // Лит. газета. 1959. 23 июня. № 78. С. 3. вверх
200 Я сама была свидетельницей этой неопределенности в 1964 году. Несколько стихотворений Ахматовой предполагалось напечатать в "Новом мире". Редактору, ответственному за эту публикацию, пришлось неожиданно уехать, а когда она вернулась, то обнаружила, что стихи выкинуты из корректуры, так как повергли в ужас одного из работников редакции. До цензора они даже не дошли. При мне редактор пришла к Ахматовой, чтобы принести ей свои извинения, и сообщила, что, вернувшись, немедленно отнесла корректуру цензору, который заявил, что изымать их было нелепостью. "Новый мир" поспешил сгладить неприятное впечатление и в следующем номере опубликовал расширенную подборку стихотворений Ахматовой. вверх
201 Ахматова А. Стихотворения. 1909-1960. С. 294-305. вверх
202 Девятая строка стихотворения "Когда в тоске самоубийства...", приведенного выше. Поначалу шестая, седьмая и восьмая строки опускались, затем, начиная со сборника 1940 года "Из шести книг", стихотворение печаталось без первых восьми строк. вверх
203 Стихотворение "Песня мира" входит в цикл "Слава миру". вверх
204 Н.Мандельштам, к чести Суркова, вспоминала, как однажды, когда у них совсем не было средств к существованию, он незаметно сунул деньги ее мужу (Hope Against Hope. P. 302). Когда он редактировал сборник 1961 года, Ахматова обнаружила, что он знает наизусть все ее ранние стихи. вверх
205 Рыленков Н. Вторая жизнь поэта // День поэзии. М., 1966. С. 305. вверх
206 Павловский А. Анна Ахматова. Л., 1966 вверх
207 Mandelstam N. Hope Against Hope. P. 222. вверх
208 Непрекращающийся поток посетителей многим мог показаться непосильным. Ее подруга Любовь Большинцова, проведи с ней некоторое время в Доме творчества писателей в Комарове, сочла, что гостей бывает чересчур много. вверх
209 Ахматова обычно называла Рива "самым красивым американцем". вверх
210 Стихотворение "Последняя роза". вверх
211 Reeve F.D. Robert Frost in Russia. Boston, 1963. P. 80-85. вверх
212 Иванов Г. Петербургские зимы. Париж. 1928. (В 1989 году выпущены издательством "Книга". - Прим. перев.) вверх
213 Стихотворение 1909 года, посвященное Гумилеву. вверх
214 См. например, диссертацию М. Мален "Николай Гумилев" (Брюссельский университет, 1963): "Но юная Анна Ахматова не была той, кто вдохновлял первые любовные стихи Гумилева..." и далее: "Жизнь Гумилева не была освещена ни великой любовью, ни преданной и исключительной дружбой..." (С. 14, 27). вверх
215 Маковский С. Николай Гумилев по личным воспоминаниям // Новый журнал. Нью-Йорк, 1964. № 9. С. 157 - 189. вверх
216 Письмо Ахматовой к Жоржу Нива воспроизведено во вступлении к статье Г. Суперфина и Р. Тименчика "Письма А. А. Ахматовой к В. Я. Брюсову // Саhiег du monde russe et sovietique. 1974. № XV (1 - 2). Janv. - juin. P. 193 (еще ранее: Записки отдела рукописей ВГБЛ. 1972. № 33). вверх
217 Струве Г. Н.С. Гумилев, жизнь и личность // Н. Гумилев. Собрание сочинений. Вашингтон, 1962. С. VII - XLIV. Когда я хотела написать о стихах Гумилева, посвященных Ахматовой, она вместе со мной проработала предисловие Струве и статью Маковского и достала мне машинопись работы П. Лукницкого "Труды и дни Н. С. Гумилева". вверх
218 Requiem. Munich, 1963. вверх
219 Стенографический отчет процесса Иосифа Бродского // Воздушные пути. 1965. № 4. С. 294 - 295. (См.: Огонек. 1988. Дек. № 49. С. 26 - 31 - Прим. перев.) вверх
220 В. Журавлев опубликовал стихотворение в № 4 журнала "Октябрь" за 1965 год; обвинение в плагиате "Чьи же стихи" появилось в газете "Известия" (20 апр. 1965), а его ответ "Письмо в редакцию" был опубликован там же (Известия. 1965. 28 апр.). вверх
221 Грядущее, созревшее в прошедшему/Вопросы литературы. 1965. № 4. С. 183 - 189. вверх
222 Это относилось к Марии Петровых, Тарковскому, Шефнеру, Липкину, Гитовичу, Коржавину, Самойлову и Шенгели. Кроме того, она заметила, что из-за нынешней манеры молодых поэтов громко декламировать свои стихи, часто перед большой аудиторией, легко спутать хорошую поэзию с эстрадной славой. вверх
223 Во время нашей с ней беседы в 1964 году Ахматова прочитала эти строки; объясняя свои отношения с Гумилевым, она указала на слово "чужая" и добавила: "В этом вся трагедия". вверх
224 Заглавие трагедии дано по одной из частей драмы "Энума элиш", написанной в Ташкенте и впоследствии уничтоженной. По мнению В. В. Иванова, стихотворение 1964 года совсем не то же, что пьеса. Н. Мандельштам описывает ее в своих воспоминаниях (Hope Abandoned. P. 350 - 357); стихотворение же ей не нравилось (Ibid. P. 362 - 363). вверх
225 См.: Анна Ахматова. Стихотворения и поэмы. Л., 1976. С. 335. вверх
226 Бывшая Кузьмина-Караваева. вверх
227 По словам Ахматовой, ее юный друг Ардов не знал, что спросить, так что ей пришлось позаботиться и о вопросах, и об ответах. Она подарила мне вырезку из вечерней ленинградской газеты "Смена", но даты я установить не смогла. (Интервью, подписанное М. Ольшевский, появилось в "Смене" за 6 июля 1965 года. - Прим. перев.) вверх
228 Я послала сценарий Ахматовой, потому что он напомнил мне что-то из "Поэмы без героя" и "Пролога". вверх
229 Персонаж стихотворения Теннисона. - на котором, как и на Фонтанном Доме, был изображен герб с девизом, прозвучавшим в "Поэме без героя": "Deus conservat omnia". Прим. перев. вверх
230 Wosien M. The Russian Folk Tale. Some Structural and Thematic Aspects. - Slavistische Beitrage. Band 71. Munich, 1969. P. 104 - 105. вверх
Источник: http://akhmatova.by.ru/bio/ah8.htm#222a
АХМАТОВА У МОДИЛЬЯНИ
Каменные женщины стоят свободно. Склонившись лишь перед общею судьбой
Последняя сенсация музейного Нью-Йорка — выставка-ретроспектива Амадео Модильяни. Она превзошла ожидания хозяев и измучила их. С утра к Еврейскому музею, солидному особняку на Пятой авеню, выстраивается очередь, огибающая целый квартал.
Критики объясняют это тем, что Модильяни с его оглушительным талантом и дерзкой манерой, с его нищей и короткой — 35-летней — жизнью, с его пристрастием к монпарнасским кафе, гашишу и абсенту идеально вписывается в образ того героя богемного Парижа, о котором так любят писать романы и снимать фильмы.
Собрав очень представительную экспозицию (более ста работ: скульптура, рисунки, живопись), куратор Мэйсон Клайн хотел обойти легенду, показав ньюйоркцам другого Модильяни. Прежде всего — еврея. Вряд ли из этого что-то вышло. Действительно, приехав в 1905 году в Париж, где еще помнили дело Дрейфуса, художник демонстративно представлялся: «Модильяни, еврей». Однако выходец из старинной эмансипированной семьи сефардов (среди его предков был Спиноза) Модильяни принадлежал к плеяде европейских космополитов-модернистов. Искусствоведы называли этот этап «музейным», подразумевая под этим термином, что художник ищет себе предшественников не в национальных традициях, не в мастерской учителя, а в галереях музеев. Надеясь оторваться от привычных корней западной живописи, Модильяни изучал в Лувре очень старое искусство — египтян, кхмеров, византийцев, доисторическую греческую архаику. Когда я в Афинах попал в музей кикладской скульптуры, сразу узнал в этих аскетических каменных лицах безо рта и глаз художественный язык Модильяни.
Выставка в Еврейском музее открывается как раз с тех ранних работ, которые определили архаические идиомы художника. Считая себя в первую очередь скульптором, Модильяни хотел придать пластике архитектурные формы. Человеческое тело на его первых работах часто напоминает колонну с головой вместо капители. Еще больше его интересовали кариатиды. Только у Модильяни этот архитектурный элемент лишен функции — его каменные женщины стоят свободно, склонившись лишь под тяжестью общей для нас всех судьбы.
Стремление к обобщенным, абстрактным формам оказалось, как это постоянно случалось с художниками в ту пророческую эпоху, крайне созвучно времени. Дело в том, что ранние работы Модильяни предсказывали явления массового общества, рожденного на фронтах Первой мировой войны. Скульптуры Модильяни с их стертой индивидуальностью, его лица-маски с прорезями вместо глаз напоминают головы в противогазе. Они изображают не человека, а особь, трагический декоративный элемент, безликую деталь общего устройства жизни, пущенной под откос.
Тем удивительнее, что лучше всего Модильяни удавались портреты. Лишенный доступа к материалу, постоянно мучаясь от нищеты, он обратился к портрету как временному заменителю скульптуры, но этот почти вынужденный шаг открыл нам нового Модильяни. Сводя к минимуму детали, презирая подробности, он умудрялся передавать не только бесспорное сходство с моделью, но и придавать портретам монументальный, вневременной характер. Иногда эти картины кажутся памятниками. Таков Кокто, изображенный сразу в фас и в профиль, или Макс Жакоб с разными глазами. Модильяни будто прессовал облик своих друзей, вынимая их из потока времени.
Интересно, что мужчины на его портретах более психологичны, более индивидуальны, чем женщины. Зато у последних есть тело.
Два последних зала выставки отведены под ню, которые принесли Модильяни громкую — скандальную — славу. Впервые показанные в декабре 17-го, эти работы вызвали такое возмущение, что выставку закрыла полиция. Привыкших ко всему парижан оскорбила не нагота, а бесцеремонность натурщиц, которые вызывающе смотрят прямо в глаза разглядывающих их зрителей.
И здесь Модильяни смог добиться двойного эффекта. Плоть на его картинах не кажется живой, но каждая модель сочится жизнью. Возможно, фокус — в позе. Нагие красавицы парят в терракотовом «мясном» колорите, как эротический мираж или соблазнительное сновидение.
Надо сказать, что для меня, как и для всего выросшего в 60-е поколения, знакомство с Модильяни началось с Ахматовой. Первый раз мы увидели его работу на суперобложке ее знаменитого сборника «Бег времени», который с благоговением хранили все, кто мог достать эту книгу.
Неудивительно, что, попав на выставку, я вместе с многочисленными посетителями-соотечественниками первым делом бросился к рисункам Модильяни — свидетелям отношений молодого итальянского художника с молодой русской поэтессой. В мемуарах Эренбурга, другой культовой книге нашего поколения, об этом эпизоде говорится коротко и сдержанно: «Анна Андреевна рассказывала мне, как она в Париже познакомилась с молодым чрезвычайно скромным итальянским юношей, который попросил разрешения ее нарисовать».
Три рисунка, выставленные в Еврейском музее, не оставляют сомнений в характере их отношений. Обнаженная Ахматова с ее неповторимым горбоносым профилем прекрасна, как дриада. Это, конечно, рисунок влюбленного. Испытывая при виде голого классика понятное смущение, я не мог стереть с лица улыбку: какой все-таки красивой была эта пара гениев.
Александр ГЕНИС, специально для «Новой» , Нью-Йорк
26.07.2004
Источник: http://2004.novayagazeta.ru/nomer/2004/53n/n53n-s32.shtml
Анна Ахматова о Модильяни
13 июля 2007 г. во Флоренции на одной из площадей подошел к книжному развалу
и взял в руки монографию, посвященную Модильяни.
Втайне я искал его другой рисунок, посвященный Ахматовой,
более реалистичный, скажем так. "Пойдем, ну что ты опять встал!?" - тянул меня мой спутник.
Но мне не хотелось убивать надежду и я продолжал листать... Нашел! Еще некоторое время ушло
на уговоры продавщицы разрешить мне сделать всего один кадр (масса славянской экспрессии!).
Уговорил. Сделал снимок рисунка. Конечно, он известен специалистам.
Но мне он раньше как-то не попадался на глаза... - АК.
И еще... З.Б.Томашевская в разговоре со студентами ЛГУ вспоминала (фильм "Ангело-почта"),
что Ахматова взяла у нее почитать и не вернула один том Модильяни из четырехтомника,
подаренного Б.Томашевскому. Возможно, в этом томе она обнаружила "свой" период в творчестве Моди?
А.А.Ахматова познакомилась с Амедео Модильяни в 1910 году в Париже, во время свадебного путешествия. Знакомство ее с А.Модильяни продолжилось в 1911 году, тогда же художник создал 16 рисунков - портретов А.А.Ахматовой
Я очень верю тем, кто описывает его не таким, каким я его знала, и вот почему. Во-первых, я могла знать только какую-то одну сторону его сущности (сияющую) - ведь я просто была чужая, вероятно, в свою очередь, не очень понятная двадцатилетняя женщина, иностранка; во-вторых, я сама заметила в нем большую перемену, когда мы встретились в 1911 году. Он весь как-то потемнел и осунулся.
В 10-м году я видела его чрезвычайно редко, всего несколько раз. Тем не менее он всю зиму писал мне. Что он сочинял стихи, он мне не сказал.
Как я теперь понимаю, его больше всего поразило во мне свойство угадывать мысли, видеть чужие сны и прочие мелочи, к которым знающие меня давно привыкли. Он все повторял: "On communique". Часто говорил: "Il n'у a que vous pour realiser cela".
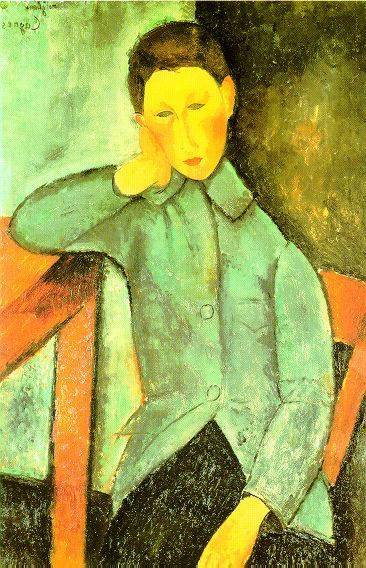
Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь: все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни: его - очень короткой, моей - очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования, это должен был быть светлый легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное в Модильяни только искрилось сквозь какой-то мрак. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Как художник он не имел и тени признания.
Жил он тогда (в 1911 году) в Impasse Falguiere. Беден был так, что в Люксембургском саду мы сидели всегда на скамейке, а не на платных стульях, как было принято. Он вообще не жаловался ни на совершенно явную нужду, ни на столь же явное непризнание. Только один раз в 1911 году он сказал, что прошлой зимой ему было так плохо, что он даже не мог думать о самом ему дорогом.
Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества. Не помню, чтобы он с кем-нибудь раскланивался в Люксембургском саду или в Латинском квартале, где все более или менее знали друг друга. Я не слышала от него ни одного имени знакомого, друга или художника, и я не слышала от него ни одной шутки. Я ни разу не видела его пьяным, и от него не пахло вином. Очевидно, он стал пить позже, но гашиш уже как-то фигурировал в его рассказах. Очевидной подруги жизни у него тогда не было. Он никогда не рассказывал новелл о предыдущей влюбленности (что, увы, делают все). Со мной он не говорил ни о чем земном. Он был учтив, но это было не следствием домашнего воспитания, а высоты его духа.
В это время он занимался скульптурой, работал во дворике возле своей мастерской, в пустынном тупике был слышен стук его молоточка. Стены его мастерской были увешаны портретами невероятной длины (как мне теперь кажется - от пола до потолка) . Воспроизведения их я не видела - уцелели ли они? Скульптуру свою он называл la chose (вещь) - она была выставлена, кажется, у Independants в 1911 году. Он попросил меня пойти посмотреть на нее, но не подошел ко мне на выставке, потому что я была не одна, а с друзьями. Во время моих больших пропаж исчезла и подаренная им мне фотография с этой вещи.
В это время Модильяни бредил Египтом. Он водил меня в Лувр смотреть египетский отдел, уверял, что все остальное (tout le reste) недостойно внимания. Рисовал мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц и казался совершенно захвачен великим искусством Египта. Очевидно, Египет был его последним увлечением. Уже очень скоро он становится столь самобытным, что ничего не хочется вспоминать, глядя на его холсты. Теперь этот период Модильяни называют Periode negre.
Он говорил: "Les bijoux doivent etre sauvages" (по поводу моих африканских бус), и рисовал меня в них. Водил меня смотреть le vieux Paris derriere le Pantheon ночью при луне. Хорошо знал город, но все-таки мы один раз заблудились. Он сказал: "J'ai oublie qu'il у a une ile an milieu". Это он показал мне настоящий Париж.
По поводу Венеры Милосской говорил, что прекрасно сложенные женщины, которых стоит лепить и писать, всегда кажутся неуклюжими в платьях.
В дождик (в Париже часто дожди) Модильяни ходил с огромным очень старым черным зонтом. Мы иногда сидели под этим зонтом на скамейке в Люксембургском саду, шел теплый летний дождь, около дремал le vieux palais a l'Italienne, а мы в два голоса читали Верлена, которого хорошо помнили наизусть, и радовались, что помним одни и те же вещи.
Я читала в какой-то американской монографии, что, вероятно, большое влияние на Модильяни оказала Беатриса X., та самая, которая называет его "perle et pourceau". Могу и считаю необходимым засвидетельствовать, что ровно таким же просвещенным Модильяни был уже задолго до знакомства с Беатрисой X., т. е. в 10-м году. И едва ли дама, которая называет великого художника поросенком, может кого-нибудь просветить.
Люди старше нас показывали, по какой аллее Люксембургского сада Верлен, с оравой почитателей, из "своего кафе", где он ежедневно витийствовал, шел в "свой ресторан" обедать. Но в 1911 году по этой аллее шел не Верлен, а высокий господин в безукоризненном сюртуке, в цилиндре, с ленточкой "Почетного легиона",- а соседи шептались: "Анри де Ренье!"
Для нас обоих это имя никак не звучало. Об Анатоле Франсе Модильяни (как, впрочем, и другие просвещенные парижане) не хотел и слышать. Радовался, что и я его тоже не любила. А Верлен в Люксембургском саду существовал только в виде памятника, который был открыт в том же году. Да, про Гюго Модильяни просто сказал: "Mais Hugo - c'est declamatoire?"
Как-то раз мы, вероятно, плохо сговорились, и я, зайдя за Модильяни, не застала его и решила подождать его несколько минут. У меня в руках была охапка красных роз. Окно над запертыми воротами мастерской было открыто. Я, от нечего делать, стала бросать в мастерскую цветы. Не дождавшись Модильяни, я ушла.
Когда мы встретились, он выразил недоумение, как я могла попасть в запертую комнату, когда ключ был у него. Я объяснила, как было дело. "Не может быть,- они так красиво лежали..."
Модильяни любил ночами бродить по Парижу, и часто, заслышав его шаги в сонной тишине улицы, я подходила к окну и сквозь жалюзи следила за его тенью, медлившей под моими окнами.
То, чем был тогда Париж, уже в начале 20-х годов называлось "vieux Paris" или "Paris avant guerre". Еще во множестве процветали фиакры. У кучеров были свои кабачки, которые назывались "Au rendez-vous des cochers", и еще живы были мои молодые современники, вскоре погибшие на Марне и под Верденом. Все левые художники, кроме Модильяни, были признаны. Пикассо был столь же знаменит, как сегодня, но тогда говорили "Пикассо и Брак". Ида Рубинштейн играла Шехерезаду, становились изящной традицией дягилевские Ballets Russes (Стравинский, Нижинский, Павлова, Карсавина, Бакст).
Мы знаем теперь, что судьба Стравинского тоже не осталась прикованной к 10-м годам, что творчество его стало высшим музыкальным выражением духа XX века. Тогда мы этого еще не знали. 20 июня 1910 года была поставлена "Жар-птица". 13 июня 1911 года Фокин поставил у Дягилева "Петрушку".
Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа (которую описал Золя) была еще не совсем закончена (бульвар Raspail). Вернер, друг Эдисона, показал мне в Taverne de Pantheon два стола и сказал: "А это ваши социал-демократы - тут большевики, а там меньшевики". Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны (jupes-culottes), то почти пеленали ноги (jupes entra-vees). Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию.
Рене Гиль проповедовал "научную поэзию", и его так называемые ученики с превеликой неохотой посещали мэтра.
Католическая церковь канонизировала Жанну д'Арк.
Et Jehanne, la bonne Lorraine,
Qu Anglois brulerent a Rouen...Я вспомнила эти строки бессмертной баллады, глядя на статуэтки новой святой. Они были весьма сомнительного вкуса, и их начали продавать в лавочках церковной утвари.
***
Модильяни очень жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса, а это были только первые робкие попытки (например, в "Аполлоне" 1911 г.). Над "аполлоновской" живописью ("Мир искусства") Модильяни откровенно смеялся.
Меня поразило, как Модильяни нашел красивым одного заведомо некрасивого человека и очень настаивал на этом. Я уже тогда подумала: он, наверно, видит все не так, как мы.
Во всяком случае, то, что в Париже называют модой, украшая это слово роскошными эпитетами, Модильяни не замечал вовсе.
Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома,- эти рисунки дарил мне. Их было шестнадцать. Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей комнате. Они погибли в царскосельском доме в первые годы Революции. Уцелел тот, в котором меньше, чем в остальных, предчувствуются его будущие "ню"...
Больше всего мы говорили с ним о стихах. Мы оба знали очень много французских стихов: Верлена, Лафорга, Малларме, Бодлера.
Данте он мне никогда не читал. Быть может, потому, что я тогда еще не знала итальянского языка.
Как-то раз сказал: "J'ai oublie de vous dire que je suis juif". Что он родом из-под Ливорно - сказал сразу, и что ему двадцать четыре года, а было ему двадцать шесть.
Говорил, что его интересовали авиаторы (по-теперешнему - летчики), но когда он с кем-то из них познакомился, то разочаровался: они оказались просто спортсменами (чего он ждал?).
В это время ранние, легкие и, как всякому известно, похожие на этажерки аэропланы кружились над моей ржавой и кривоватой современницей (1889) - Эйфелевой башней.
Она казалась мне похожей на гигантский подсвечник, забытый великаном среди столицы карликов. Но это уже нечто гулливеровское.
***
...а вокруг бушевал недавно победивший кубизм, оставшийся чуждым Модильяни.
Марк Шагал уже привез в Париж свой волшебный Витебск, а по парижским бульварам разгуливало в качестве неизвестного молодого человека еще не взошедшее светило - Чарли Чаплин. "Великий немой" (как тогда называли кино) еще красноречиво безмолвствовал.
***
"А далеко на севере"... в России умерли Лев Толстой, Врубель, Вера Комиссаржевская, символисты объявили себя в состоянии кризиса, и Александр Блок пророчествовал:
О, если б знали, дети, вы
Холод и мрак грядущих дней...Три кита, на которых ныне покоится XX век,- Пруст, Джойс и Кафка - еще не существовали как мифы, хотя и были живы как люди.
***
В следующие годы, когда я, уверенная, что такой человек должен просиять, спрашивала о Модильяни у приезжающих из Парижа, ответ был всегда одним и тем же: не знаем, не слыхали.
Только раз Н.С.Гумилев, когда мы в последний раз вместе ехали к сыну в Бежецк (в мае 1918 г.) и я упомянула имя Модильяни, назвал его "пьяным чудовищем" или чем-то в этом роде и сказал, что в Париже у них было столкновение из-за того, что Гумилев в какой-то компании говорил по-русски, а Модильяни протестовал. А жить им обоим оставалось примерно по три года, и обоих ждала громкая посмертная слава.
К путешественникам Модильяни относился пренебрежительно. Он считал, что путешествия - это подмена истинного действия. "Les chants de Maldoror" постоянно носил в кармане; тогда эта книга была библиографической редкостью. Рассказывал, как пошел в русскую церковь к пасхальной заутрене, чтобы видеть крестный ход, так как любил пышные церемонии. И как некий, "вероятно очень важный господин" (надо думать - из посольства) похристосовался с ним. Модильяни, кажется, толком не разобрал, что это значит...
Мне долго казалось, что я никогда больше о нем ничего не услышу... А я услышала о нем очень много...
***
В начале нэпа, когда я была членом правления тогдашнего Союза писателей, мы обычно заседали в кабинете Александра Николаевича Тихонова (Ленинград, Моховая, 36, издательство "Всемирная литература"). Тогда снова наладились почтовые сношения с заграницей, и Тихонов получал много иностранных книг и журналов. Кто-то (во время заседания) передал мне номер французского художественного журнала. Я открыла - фотография Модильяни... Крестик... Большая статья типа некролога; из нее я узнала, что он - великий художник XX века (помнится, там его сравнивали с Боттичелли), что о нем уже есть монографии по-английски и по-итальянски. Потом, в тридцатых годах, мне много рассказывал о нем Эренбург, который посвятил ему стихи в книге "Стихи о канунах" и знал его в Париже позже, чем я. Читала я о Модильяни и у Карко, в книге "От Монмартра до Латинского квартала", и в бульварном романе, где автор соединил его с Утрилло. С уверенностью могу сказать, что этот гибрид на Модильяни десятого-одиннадцатого годов совершенно не похож, а то, что сделал автор, относится к разряду запрещенных приемов.
Но и совсем недавно Модильяни стал героем достаточно пошлого французского фильма "Монпарнас, 19". Это очень горько!
по материалам hrono.ru и freelsd.ne
Источник: http://www.amedeo-modeliyani.org.ru/index3.html
Борис Носик
Анна и АмедеоИстория тайной любви
Ахматовой и МодильяниОн - между первой и второй встречей
Раме вспоминает, с каким упорством и упоением работал тосканец, его сосед по ателье в "Розовой вилле", как называли тамошние художники дом в Сите Фальгьер:
"Просыпаясь рано, Модильяни тесал во дворе камень. Головы на длинной шее выстраивались в шеренгу перед его ателье, одни лишь едва тронутые резцом, другие уже завершенные... К вечеру, закончив труд, он поливал свои скульптуры. С любовью, как поливают цветы, этот рачительный и дотошный скульптор-садовник ждал, пока стечет вся вода через дырочки лейки, и вода струилась по священным примитивам, рожденным под его резцом. Потом, присев на корточки у входа в свое ателье, он наблюдал, как они сверкают в последних отблесках заходящего солнца, и говорил, спокойный, счастливый: "Они точно отлиты из золота".
Это и были те мгновенья покоя и счастья труда, которые давал ему Париж, отнимавший у него здоровье.
Раме вспоминает, что со временем скульптурные образы Модильяни становились все более обобщенными, "его головы мало-помалу принимали форму удлиненных яиц, установленных на безупречных цилиндрах, с легким только намеком на прорези глаз, нос и рот, которые не должны были нарушать единство пластической формы".
Тот же Раме вспоминает об упорной работе Модильяни над портретами, вспоминает, как мало ему удавалось заработать редкой продажей рисунка или наброска. Долги его терпеливой хозяйке "Розовой виллы", а поздней и ее наследнику росли угрожающе. Но он давно уж жил в кредит... Деньги мало интересовали его - он был одним из самых беспечных и бескорыстных художников на нищем и беспечном Монпарнасе. Может, и этим тоже объяснялось раннее рожденье его легенды - ведь бескорыстие нищего художника важная составляющая мифа о богеме.
В тот год он познакомился с компанией португальцев, и другом его стал выходец из богатой португальской семьи, талантливый и благородный Амадео да Суза Кардозо. Да Суза, познакомившись с работами Модильяни, предложил ему устроить у себя в ателье на улице Колонель-Комб выставку скульптур и гуашей, на которых были представлены и "кариатиды".
В поисках своего пути отчаянно бившийся о стену непостижимой жизни Модильяни обращался и к вину и к гашишу, о которых один из его кумиров (Бодлер) писал как о средстве "расширения индивидуальности". У Модильяни было то самое бодлеровское стремление, "распалив свой опыт, приоткрыть завесу бесконечности". Эксперименты эти стоили ему здоровья и ввергали его в новые долги. Именно к тому времени относится его письмо к брату Умберто.
"Милый Умберто,
прежде всего - спасибо за нежданное воспомоществование. Со временем, надеюсь, я смогу войти в колею, главное - не терять головы. Ты спрашиваешь, что я намерен делать. Работать, выставляться. У меня такое чувство, что в один прекрасный день я себе пробью путь..."
В этот трудный год он часто вспоминал о встрече с этой удивительной, ни на кого не похожей русской незнакомкой и писал ей отчаянные, несдержанно нежные письма. Ему хотелось снова смотреть ей в глаза, как тогда... Когда тогда? Где тогда? Где и сколько раз успели они встретиться? Мы не знаем. Не знаем и того, что она писала в ответ на его письма. Мы знаем только, что она сделала в ответ на них...
Источник: http://www.akhmatova.org/bio/nosik05.htm
Ахматова Анна
11 июня 1889 год - 5 марта 1966 года
История любви к Модильяни
Анна Андреевна Ахматова (1889—1966) не любила рассказывать о своей личной жизни, о ее романах нам известно со слов друзей, близких, знакомых. Часто поэтесса сама в стихах раскрывала тайны своих чувств к любимым мужчинам. И лишь одна история, которая случилась с ней в молодости, когда поэтессе едва исполнилось двадцать лет, породила немало загадок, разгадать которые до конца не удается до сих пор. Ахматова тщательно скрывала историю этой любви и лишь в конце жизни слегка приоткрыла завесу над ее теплым чувством к итальянскому художнику Амедео Модильяни (1884—1920). Итальянский еврей по происхождению, Модильяни переехал в Париж в 1906 году, чтобы брать уроки художественного мастерства у именитых французских живописцев и заявить о себе, как о молодом, талантливом художнике. Модильяни был неизвестен и очень беден, а лицо его излучало такую поразительную беззаботность и спокойствие, что Ахматовой он показался человеком из странного, непонятного ей, непознаваемо иного мира. Изящный, аристократичный, чувствительный, Амедео отличался особой экстравагантностью, которая сразу бросилась в глаза русской девушке. Она вспоминала, что в первую их встречу Модильяни был одет в желтые вельветовые брюки и яркую, такого же цвета, куртку. Виду него был нелепый, однако художник так изящно мог преподать себя, что казался элегантным красавцем, словно одетым в самые дорогие наряды по последней парижской моде. В тот год Модильяни едва исполнилось двадцать шесть лет, Анне Андреевне, напомним, двадцать. За месяц до этой встречи, весной 1910 года, она обручилась с поэтом Николаем Гумилевым, и влюбленные отправились в Париж. Модильяни встретил Ахматову в самом центре французской столицы. Говорили, что поэтесса была так красива, что на улицах все заглядывались на нее, а незнакомые мужчины без стеснения вслух восхищались ee очарованием. «Я была просто чужая, — вспоминала Анна Андреевна, — вероятно, не очень понятная... женщина, иностранка». Художник осторожно попросил у Ахматовой разрешение написать ее портрет. Она согласилась. Так началась история страстной, но нeдолгой любви.
После возвращения в Петербург Ахматова продолжала писать стихи и поступила на историко-литературные курсы, а ее супруг, Николай Гумилев, с нетерпением дождавшись осени, уехал в начале сентября в Африку, пообещан вернуться только к следующей весне.
Молодой жене, которую все
чаше называли «соломенной вдовой», было очень ОДИНОКО. И будто бы читая ее мысли, парижский красавец вдруг прислал пылкое письмо, в котором признался, что не может забыть ее и мечтает о новой встрече. Письма стали частыми, и в каждом из них Модильяни признавался в любви.
Однако от друзей, побывавших в Париже, Ахматова знала, что Дело, как называли близкие Модильяни, пристрастился к вину и наркотикам. Художника угнетали нищета и безнадежность. А русская девушка, которая так стремительно влетела в его жизнь, оставалась далеко в чужой, непонятной стране.
В марте 1911 года Гумилев вернулся из Африки. И почти сразу у супругов произошла крупная ссора. Обиженная Ахматова, вспомнив о парижском поклоннике, внезапно уехала во Францию, где провела долгих три месяца.
Амедео увидела она совершенно иным. Худой, бледный, осунувшийся от пьянства и бессонных ночей в кругу своих любимых натурщиц, Дедо резко постарел сразу на много лет. Он отрастил бороду и казался теперь почти стариком. Однако для Ахматовой ее страстный итальянец оставался самым красивым на свете. Он, как и раньше, обжигал ее таинственным, пронзительным взглядом.
Модильяни подарил Анне Андреевне незабываемые дни, которые остались с ней на всю жизнь. Спустя много лет она рассказывала, что художник был так беден, что не мог ее никуда пригласить и водил по городу. Им приходилось сидеть в любимом Люксембургском саду на скамейке, а не на удобных стульях, за которые пришлось бы платить. Они гуляли по ночному Парижу, по старинным, темным улочкам, а однажды даже заблудились и пришли в мастерскую художника лишь под утро.
В крохотной, заставленной холстами комнатке Ахматова позировала художнику. В тот сезон Модильяни нарисовал на бумаге, по словам поэтессы, более десяти ее портретов, которые сгорели потом во время пожара. Однако до сих пор некоторые искусствоведы считают, что Ахматова скрыла их, будто бы не желая показать миру. Возможно, Анна Андреевна боялась, что портреты могли сказать всю правду об их отношениях...
Много лет спустя, среди рисунков художника нашли два портрета с обнаженной женщины и обнаружили явное сходство модели со знаменитой русской поэтессой. Эти рисунки стали подтверждением любви Модильяни и Ахматовой. Они могли бы быть вместе, однако судьба разлучила их навсегда. Но в тот год влюбленные не думали о вечной разлуке. Они были вместе. Он — одинокий и бедный итальянский художник, она — замужняя русская женщина.
Днем Модильяни водил Анну Андреевну по музеям, особенно часто они заходили в египетский подвал Лувра. Амедео был убежден, что лишь египетское искусство может считаться достойнейшим. Художник отвергал прочие направления в живописи. Русскую подругу он изображал в нарядах египетских цариц и танцовщиц.
Когда же наступала ночь, влюбленные выходили из мастерской и гуляли под открытым небом. По воспоминаниям Ахматовой, в те дни шли обильные дожди, и заботливый Дедо, прихватив на случай дождя огромный черный зонт, раскрывал его над Анной, словно пряча ее от всех житейских забот. В такие минуты для Ахматовой существовал лишь он — ее странный друг, казавшийся малым ребенком, нелепый романтик, воспевающий неземные миры.
Ахматова вспоминала, что никогда не видела Амедео пьяным. Лишь однажды, накурившись гашиша, он лежал и в растерянности держал ее руку, повторяя: «Sois bonne, sois douce». «Но ни доброй, ни нежной, — добавляла поэтесса, — я с ним не была».
Когда Ахматова, покидая Париж, прощалась с художником, тот отдал ей свертки рисунков, как всегда подписанных коротким слорез два года, не желая больше терпеть пьяные дебоши Амедео, Беатрис ушла от него.
Спустя год художник увлекся двадцатилетней девицей Жанной Эбютерн. Они стали жить вместе, и осенью 1918 года Жанна родила Модильяни дочь. Художник был счастлив, наконец-то он обрел семью и долгожданный покой. Однако силы его таяли с каждым днем. В конце 1919 года Модильяни сильно простудился и спустя месяц умер. Обезумевшая от горя супруга, уже восемь месяцев носившая под сердцем второго ребенка, не смогла пережить смерть любимого. Она выбросилась из окна на следующий же день, поскольку хотела уйти из жизни вместе с Амедео.
Анна Ахматова узнала о смерти Модильяни случайно, когда в один из январских вечеров 1920 года открыла старый европейский журнал по искусству и увидела маленький некролог, где сообщалось о невозвратимой потере для живописи — скончался хороший художник.
Дочь Амедео Модильяни, став взрослой, написала книгу о своем отце, в котором описала его жизнь и десятки романов с самыми разными женщинами. Она упомянула всех — и тех, к кому ее отец испытывал сильные чувства, и тех, связь с которыми была непродолжительной. И только об Ахматовой в этой книге не сказано ни слова.
Возможно, итальянский художник, так же как и поэтесса, не желал разглашать их взаимную, казавшуюся необыкновенной любовь.
Тяжела ты, любовная память!
Мне в дыму твоем петь и гореть,
А другим — это только пламя,
Чтоб остывшую душу греть.
А. АХМАТОВА
В 1922 году мир признал Модильяни великим художником. В наши дни его картины продаются на аукционах за пятнадцать и более миллионов долларов. В начале 1960-х годов, после трехдневного посещения Парижа (спустя более чем пятьдесят лет) Ахматова все-таки решилась написать воспоминания о встрече с итальянским художником и их непродолжительном, но очень ярком романе. Тогда она призналась: «Все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни: его — очень короткой, моей — очень длинной». Анна Андреевна Ахматова больше не отрицала своей любви к итальянскому красавцу Амедео Модильяни.
Поэтесса умерла 5 марта 1966 года под Москвой, в Домодедово. Похоронили ее в Комарове, близ Петербурга.
В начале 1990-х годов в Италии состоялась выставка работ итальянского художника. Среди ста картин посетители увидели двенадцать изображений красивой, молодой, черноволосой девушки. Это были портреты великой русской поэтессы Анны Андреевны Ахматовой.
Источник: http://www.tonnel.ru/index.php?l=gzl&uid=300
Наталья Лянда
Ангел с печальным лицом
Образ Анны Ахматовой в творчестве Модильяни
"Счастье - это ангел с печальным лицом", - писал Модильяни своему другу Полю Александру1. Мог ли так сказать о себе Модильяни? Можно ли вообще так сказать о себе? В прочтении Франсуа Берго - это сам Модильяни2. В моем - Ахматова.
Я повторила название статьи Ф.Берго по многим причинам. Во-первых, это единственные, написанные рукой Модильяни слова о том, что для него было счастьем. Во-вторых, если исходить из моего предположения, счастьем была его тайная муза, его "Египтянка" - Анна Ахматова.
Джон Ричардсон согласился с моей трактовкой, а также высказал предположение, что эта строчка могла быть заимствована Модильяни у поэтов-символистов. Но эти слова могли принадлежать и самому художнику3. "Что он сочинял стихи, он мне не сказал", - пишет Ахматова. Дата, когда была отправлена открытка Полю Александру, - 6 мая 1913 года - значительна: встреча с Ахматовой произошла тремя годами раньше - в мае 1910 года в Париже.
Творчество Модильяни 1910-1913 гг. часто называют "египетским" или "негритянским". В своем очерке о Модильяни Ахматова уделяет этому периоду особое внимание. Вначале она пишет о том, что значил этот период в жизни каждого из них, а затем называет Египет "последним увлечением" художника. И не без иронии добавляет: "Теперь этот период Модильяни называют Periode negre" (негритянский период). В очерке о Модильяни Ахматова пишет о том, что они оба "вероятно, <...> не понимали одну существенную вещь: все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни..." И дальше: "...все божественное в Модильяни только искрилось сквозь какой-то мрак <...> У него была голова Антиноя и глаза с золотыми искрами, - он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти"4. Эти слова Ахматовой равнозначны словам Модильяни о счастье.
"И через все, и каждый миг, / Через дела, через безделье / Сквозит, как тайное веселье, / Один непостижимый лик. / О боже! Для чего возник / Он в одинокой этой келье?" - можно сравнить со словами Модильяни из письма к ней: "Вы во мне как наваждение"5.
"Ангел с печальным лицом..." Именно такое впечатление она производила на многих. "Грусть была, действительно, наиболее характерным выражением лица Ахматовой. Даже - когда она улыбалась. И эта чарующая грусть делала ее лицо особенно красивым <...> вся ее стройность была символом поэзии <...> Печальная красавица, казавшаяся скромной отшельницей, наряженная в модное платье светской прелестницы" (Юрий Анненков, 1913)6. "Как черный ангел на снегу..." (Мандельштам, 1913)7. "Вполоборота, о печаль..." (он же, 1914)8. Модильяни первый увидел ее такой (см. илл. № 1).
Мне удалось найти около 150 работ художника, выполненных в период с 1910 по 1913 гг. В них обнаруживается портретное сходство с Ахматовой и повторяются характерные черты ее внешности. Это рисунки, живопись и скульптуры, названные "Голова женщины" или "Кариатида". Все они находятся в частных коллекциях и музеях Европы, Америки, Австралии и Японии. И только один из рисунков, подаренных Модильяни Ахматовой в 1911 г., сохранился в России. Она называла его своим портретом и очень им дорожила: "О каком наследстве можно говорить? Взять под мышку рисунок Моди и уйти", - говорила она А. Найману по поводу своего завещания9.
Друзья Анны Андреевны знали о рисунке из ее частых рассказов о художнике и о том, как он ее рисовал. Но прочесть об этом стало возможным только через полвека, в 1964 г., когда в Италии впервые был опубликован ее очерк "Амедео Модильяни"10. В 1965 г. на суперобложке сборника "Бег времени" этот рисунок был впервые воспроизведен в России. Наверное, не случайно в шестидесятые же годы, готовя к печати свой трехтомник, она решила поместить его на суперобложку именно второго тома, куда предполагалось включить "Поэму без героя" и часть прозы, связывая таким образом рисунок с содержанием тома11.
С годами накопилось немало исследований, посвященных рисунку. Он становится предметом анализа знатока живописи и поэзии Н.И. Харджиева. Ахматову рисовали многие художники, но из всех портретов лучшим, по его мнению, бесспорно, был рисунок Модильяни. Харджиев пишет, что "по силе выразительности с ним может быть сопоставлен только "скульптурный" стиховой образ Ахматовой, созданный Мандельштамом (1914)"12.Вполоборота, о печаль,Так считает Харджиев. Но, неужели "стиховой образ", созданный самой Ахматовой в "Портрете автора в молодости" (1960), уступает стихам Мандельштама в "силе выразительности"? Утверждение Харджиева, что портрет "чрезвычайно похож на подготовительный рисунок для скульптуры", кажется мне13 спорным. Теперь, когда известны все скульптуры Модильяни и подготовительные рисунки к ним, можно предположить, что скорее всего именно этот специально предназначался для книги стихов "Вечер". Ему и было посвящено стихотворение "Рисунок на книге стихов" (1958).
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложноклассическая шаль...
В статье "О рисунке Амедео Модильяни" Харджиев, с одной стороны, называет его "портретом Ахматовой", а с другой - приходит к выводу, что "перед нами не изображение Анны Андреевны Гумилевой 1911 года, но "ахроничный" образ поэта"14. К его мнению присоединяется и Ю. Молок, специалист по иконографии Ахматовой: "Даже рисунок Модильяни, который был исполнен в 1911 г. в Париже и которым Ахматова дорожила до конца своей жизни, был нарисован не с натуры, "его не интересовало сходство. Его занимала поза", - как впоследствии Анна Ахматова говорила Л.К. Чуковской"15. Слова Ахматовой в данном случае цитируются не полностью: - фраза "Он раз двадцать рисовал меня" почему-то опущена, хотя из нее ясно, что Модильяни рисовал Ахматову именно с натуры, и не двадцать раз, а как выясняется, гораздо больше16. В своем очерке она говорит: "Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома, - эти рисунки дарил мне". В другой редакции очерка это звучит так: "Рисовал он меня не в мастерской, а у себя дома". Здесь необходимо пояснить термин "с натуры". Он означает рисование в мастерской, когда натурщик или натурщица специально позируют художнику. Именно это и имела в виду Ахматова, подразумевая быстрые наброски, которые он делал с натуры у себя дома. Да и как Модильяни, который писал Ахматовой: "Я беру вашу голову в свои руки и окутываю вас любовью", - мог рисовать ее не с натуры17.
Рисунок 1911 года наверняка предназначался для сборника "Вечер". Ахматова считала его своим портретом:Он не траурный, он не мрачный,У этого стихотворения три разных названия: "В старом зеркале, или надпись на книге "Вечер". 1912", "Портрет автора в молодости" и "Рисунок на книге стихов". Последнее наиболее точно и говорит само за себя, оно описывает именно рисунок - "черно-белый", который Ахматова не могла по понятным причинам использовать в 1912 году. Он является точным описанием рисунка с упоминанием важной биографической подробности - "полуброшенной новобрачной". (Когда Ахматова приехала во второй раз в Париж с Гумилевым, он вскоре отправился в Африку, оставив ее одну.) При таком портретном сходстве вряд ли можно назвать рисунок, поразительно точно воспроизведенный в стихотворении, "ахроничным" образом поэта", как об этом пишет Харджиев. Сравнения со сфинксом и "Ночью" Микельанджело, которые приводит Харджиев, говорят лишь о мастерстве художника, сумевшего в размер камерного рисунка уложить идею скульптурной глыбы, вызывая одновременно ощущение интимности и монументальности.
Он почти как сквозной дымок,
Полуброшенной новобрачной
Черно-белый легкий венок.
А под ним тот профиль горбатый,
И парижской челки атлас,
И зеленый, продолговатый,
Очень зорко видящий глаз.
"Рисунок на книге стихов"
Стихотворение "Портрет автора в молодости" цитирует в своей статье также и А.Докукина-Бобель, однако не связывает его с рисунком Модильяни 1911 года"18. Удивительно, что ни один исследователь творчества Ахматовой никогда не связывал этого рисунка со стихотворением (см. илл. № 2).
Метод моего исследования возник в процессе работы. Я обнаружила параллели, совпадения в описаниях Ахматовой одного и того же факта. То, что в поэзии было тайной, помогала расшифровать проза. Кроме того, я искала у Ахматовой описания или упоминания работ Модильяни, его образа, мотива Модильяни, слоя Модильяни. Несмотря на то, что большинство стихотворений Парижского периода было ею уничтожено, я предполагала, что "тема Модильяни" не могла совсем исчезнуть.
Меня поразило, что какому-то событию или переживанию в творчестве одного часто находилось соответствие в творчестве другого. "Пары" - как я мысленно называла эти совпадения, их неслучайность, повторяемость - натолкнули меня на гипотезу, которой посвящена выставка и эта статья.
"Среди ранних стихов Ахматовой как будто нет ни одного, в котором бы отразился образ Модильяни", - пишет М.Кралин в своих комментариях к двухтомнику Ахматовой 1996 года. По мнению специалистов, художник мог быть героем только одного стихотворения, "В углу старик...", написанного в конце 50-х годов19. В 1990 г. были опубликованы две строфы, не вошедшие в "Поэму без героя":В синеватом Париж тумане,На Западе документов об Ахматовой, связанных с именем Модильяни, вообще не существует. Его письма, которые она цитирует в очерке, не сохранились. Основные источники - мемуары. Таким образом, очерк, рисунок и две не вошедшие в "Поэму" строфы являются единственными опубликованными в России документами. Их немного, но вполне достаточно, чтобы понять, почему Модильяни в жизни Ахматовой был "многих бедствий виной" и мог "даже в сон вносить расстройство", а также, почему Ахматова была для него наваждением, счастьем, "ангелом с печальным лицом" - прообразом многих его работ.
И наверно, опять Модильяни
Незаметно бродит за мной.
У него печальное свойство
Даже в сон мой вносить расстройство
И быть многих бедствий виной.
Но он мне - о своей Египтянке...
Что играет старик на шарманке?
А под ней весь парижский гул.
Словно гул подземного моря, -
Этот тоже довольно горя
И стыда и лиха хлебнул20.
Весной 1910 г. в искусстве Модильяни происходит резкое изменение. Он создает огромную серию женских портретов, постоянно варьируя один и тот же, новый для него тип лица, характерные черты которого повторяются в скульптурных портретах и в кариатидах: от сразу узнаваемых до бесконечных трансформаций. Лица на многих рисунках имперсональны, в них только условно намечены какие-то черты. Основное внимание он уделяет позе, пытаясь найти самую выразительную и точную линию задуманного движения. Таким же образом он делал рисунки головы и профиля. Рисовал он со скоростью разговорной речи, как вспоминали его друзья.
Сравнивая рисунок 1911 г., уцелевший в России, с другими, я увидела между ними сходство. На них Ахматова изображена обнаженной, обычно в позе кариатиды с поднятыми руками, как бы поддерживающими небесный свод. Именно эта поза и "занимала" Модильяни, и когда он повторял ее множество раз, то портретное "сходство его не интересовало" вообще или интересовало до определенной степени.
Я сделала фотокопии репродукций многих рисунков и скульптур, а также ее фотографий и портретов, выполненных другими художниками. К этому я приложила копию очерка "Амедео Модильяни" на английском языке и отправила в несколько музеев, где находятся скульптурные женские головы Модильяни. Мою гипотезу подтвердили Дж. Нейсвондер (J. Neiswander, музей в Миннеаполисе), С. Кросс (S. Cross, Музей Гугенхейма в Нью-Йорке), Дж. Вайсе (J. Weiss, Национальная галерея в Вашингтоне). Джон Ричардсон, автор четырехтомного исследования о Пикассо, согласился не только с этими моими предложениями, но и с другими, требующими более сложной аргументации. И даже дал мне весьма ценные советы, речь о которых пойдет ниже.
Джанкарло Вигорелли первым увидел сходство рисунка и скульптурной головы. "Вглядитесь повнимательней в профиль Ахматовой на сохранившемся рисунке: в скульптуре он воспроизведен совершенно таким же <> интуиция подсказывает мне, что я прав: угадывается сквозь архаичную, почти нефертитеобразную структуру, облик, отблеск облика Ахматовой". Он знал Ахматову лично, много разговаривал с ней о Модильяни и первый читал ее очерк на итальянском языке. По его инициативе Ахматовой была присуждена премия "Этна Таормина". В 1988 году он написал статью "Ахматова и Модильяни" к каталогу выставки Модильяни в Вероне21. Этой статье предшествовали долгие размышления. "Я читал и перечитывал обращенные к Модильяни строчки очерка, глубоко вникая в то, что стоит за каждым словом"22. Тем не менее, фраза о подаренной фотографии и о том, что она пропала, прошла мимо его внимания: "Во время моих больших пропаж исчезла и подаренная им мне фотография этой вещи". Речь идет о выставке скульптур 1911 года. "Он попросил меня пойти посмотреть на нее, но не подошел ко мне на выставке, потому что я была не одна, а с друзьями"23. (Еще одна биографическая подробность, подтверждающая тайну их отношений). Мог ли Модильяни подарить Ахматовой фотографию своей скульптуры, не имеющей к ней никакого отношения? Вряд ли! (См. илл. № 3).
А.Найман согласился со мной (правда, на 90%), что нa пропавшей фотографии была скульптура, изображавшая Ахматову24. Фраза Вигорелли: "Конечно, ваял он эту работу не на глазах у Анны, иначе она бы этим бесконечно гордилась"25, - противоречит словам Ахматовой из очерка: "В это время он занимался скульптурой, работал во дворике возле своей мастерской (в пустынном тупике был слышен стук его молоточка) в обличии рабочего"26. Здесь, по-моему, весьма убедительно описаны обстоятельства места и образа действия.
Сходство всех шести скульптур, экспонировавшихся на выставке 1911 года в мастерской Суаза Кардосо, со всеми остальными подтверждает друг художника Поль Александр, который видел, как он работал: "Когда какой-то образ преследовал его воображение, он рисовал его безостановочно и с лихорадочной скоростью, никогда не исправляя, начинал один и тот же рисунок по десять раз за вечер <> пока не добивался контура, который его удовлетворял. Именно это и придает большинству его рисунков особую чистоту и свежесть <> Скульптуры он делал так же: долго рисовал, затем приступал к работе над камнем. Если ошибался, брал другой камень и все начинал сначала. За свою жизнь он сделал около двадцати скульптур. В сущности, почти все они - одна и та же скульптура, начатая снова и снова"27
. Следовательно, и в скульптуре, и в рисунках художник варьировал один и тот же образ. В трехтомном каталоге работ Модильяни (1990) О. Патани (О. Patani) воспроизводит рисунок Ахматовой 1911 года, но никак не связывает его ни со скульптурой, ни с другими похожими на нет рисунками28. Не заметил сходства и автор книги о скульптуре Модильяни Вернер (Werner), опубликовавший этот рисунок29. Дж. Роуз (J. Rose) в книге "Modigliani: the Pure Bohemian" на нескольких страницах говорит об отношениях Модильяни и Ахматовой, но так и не обнаруживает, кто был прообразом многих работ художника30. В статье "Ахматова и Модильяни" к каталогу выставки Модильяни в Вероне (1988 г.) Вигорелли впервые высказал предположение о том, что на рисунке и в скульптурном портрете изображено одно и то же лицо31. К сожалению, этот каталог не попал в поле зрения искусствоведов высочайшего уровня (Франция и Америка) - консультантов, авторов статей, составителей каталога, организаторов выставки "Неизвестный Модильяни" (1993 г., коллекция Поля Александра). Поль Александр, близкий друг Модильяни и первый коллекционер его работ, виделся с ним ежедневно в течение нескольких лет (1908-1914). Ни тогда, ни позже, став известным коллекционером, он так и не смог понять, кого так одержимо рисовал Модильяни. Уже в 1936 году в книге Булье (С. J. Bulliet), современника Модильяни, появилось упоминание о "русской красавице, по слухам, дворянке", возникшей в жизни художника32.
Известно, что Модильяни мечтал создать храм в честь человечества по своему архитектурному плану. Эскизы графических кариатид он хотел использовать для будущих скульптур. Храм должен был прославлять не бога, но человека. Модильяни называл кариатиды "столпами нежности"33. Теперь, когда понятно, кто был их прообразом, становится более ясным и личный подтекст идеи храма. Если бы эта идея воплотилась, храм был бы посвящен его музе - Ахматовой. Бродский как-то сказал Ахматовой: "Главное - это величие замысла"34. Именно в этом нельзя отказать Модильяни. "Замысел близок к завершению. Я все сделаю в мраморе", - писал он из Италии Полю Александру35. В этом контексте строки Ахматовой "Подожди, я тоже мраморною стану..." из стихотворения "А там мой мраморный двойник..." воспринимаются как возможный разговор Ахматовой и Модильяни о его будущей скульптуре в мраморе.
В стихотворении 1910 года "Старый портрет" - образ "стройной белой дамы" и влюбленного в нее художника, для которого "жуткие губы" этой дамы "стали смертельной отравой". Оно посвящено А. Экстер. Этого портрета никто никогда не видел, он нигде не воспроизводился и не экспонировался. Кроме того, известно, что Экстер никогда не написала за свою жизнь ни одного портрета. Можно предположить, что Ахматова посвятила стихотворение Экстер, таким образом скрывая свою тайну. Тем более, что каждое слово этой строфы указывает на рисунок Модильяни и говорит о том, что Ахматова могла знать также о храме (см. илл. № 4):Тонки по-девичьи нежные плечи,
Смотришь надменно-упрямо;
Тускло мерцают высокие свечи,
Словно в преддверии храма.
Кариатида, 1912/13. На сайте-источнике все ссылки на иллюстрации не работают,
понятия не имею, что в том или другом случае хотела показать читателям автор статьи,
все предложенные мною иллюстрации взяты из различных сайтов Модильяни,
в частности, - http://podol.ru/modigliani/ (много кариатид!). - Прим. АНК.
Таких рисунков было много, они являются подготовительными к кариатидам, которые были сначала задуманы в мраморе для будущего храма, но впоследствии выполнены маслом на холстах. Рисунки, изображающие Ахматову в позе кариатиды в доме Модильяни на фоне меноры, могут быть связаны с набросками к циклу "Семисвечник" (см. илл. № 5):За плечом, где горит семисвечник,
Где тень иудейской стены.
Вызывает невидимый грешник
Подсознанье предвечной весны.
Многоженец, поэт и начало
Всех начал и конец всех концов.
В 1908 г. у него уже была подобная модель ("жуткие губы" - эти?). - Прим. АНК.
При желании можно найти - и не найти никакого сходства в его работе 1911 г... - Прим. АНК.
При желании можно найти - и не найти никакого сходства в его работе 1916 г... - Прим. АНК.
При желании можно найти - и не найти никакого сходства в его работе 1917 г... - Прим. АНК.
При желании можно найти - и не найти никакого сходства в его работе 1917 г... - Прим. АНК.
При желании можно найти - и не найти никакого сходства в его работе 1917 г... - Прим. АНК.
При желании можно найти - и не найти никакого сходства в его работе 1917 г... - Прим. АНК.
При желании можно найти - и не найти никакого сходства в его работе 1917 г... - Прим. АНК.
При желании можно найти - и не найти никакого сходства в его работе 1917 г... - Прим. АНК.
При желании можно найти - и не найти никакого сходства в его работе 1917 г... - Прим. АНК.
В течение трех лет, с 1910 по 1913, Модильяни, вдохновленный образом Ахматовой, создал столько работ, сколько хватило бы на две большие выставки. Ни один портрет в его творчестве не вызывал в нем желания и необходимости так много и упорно работать, пробуя все материалы и стили, включая чуждый ему кубизм. Это был самый интенсивный и плодотворный период его жизни.
В жизни Ахматовой происходил такой же процесс: будучи в Париже и сразу после возвращения она написала около 200 стихотворений (которые, к сожалению, были ею уничтожены)36. "Стихи шли легкой, свободной поступью"37, - вспоминала она об этом времени. В 1912 году выходит первый сборник стихов "Вечер", принесший ей большой успех. В нем сразу прозвучали главные интонации ее поэзии. "Мне <...> из моей первой книги <...> сейчас по-настоящему нравятся только строки "пьянея звуком голоса, похожего на твой"38. В этом же году она пишет: "Надо мною только небо, а со мною голос твой". Когда через полвека в очерке о Модильяни Ахматова говорит: "Голос его как-то навсегда остался в памяти", - становится понятно, к кому могли относиться предыдущие строки из стихотворений 1911 года39. В пятидесятые годы, вспоминая свой первый сборник и стихи, о которых говорилось выше, она добавляет: "Мне даже кажется, что из этих строчек выросло очень многое в моих стихах"40.
В этот период Модильяни гоже находит свою главную линию. Известен эпизод, когда он в разгаре бурного веселья схватил бумагу, карандаш и, восклицая, "нашел!", сделал рисунок женской головы с "лебединой шеей", которая и прославила его на всю жизнь 41. Эта линия характерна для всех изображений Ахматовой. Впоследствии она стала неотъемлемой особенностью многих других его портретов, женских и мужских. Интересно, что Ахматова также сравнивала себя с лебедем: "Только, ставши лебедем надменным, изменился серый лебеденок...". Как пишет М.Кралин в комментариях к собранию сочинений Ахматовой, в 1965 году, "замышляя новое издание своих сочинений, она придумала к "Вечеру" стихотворный эпиграф, написанный как бы от имени Гумилева" 42:Лилия ты, лебедь или дева,В этом стихотворении, как и во многих других, есть слой Модильяни, вживленный в другой, вымышленный. Слова "лебедь", "профиль", "начертал" имеют больше ссылок на Модильяни, чем на Гумилева, или, скорее, на переплетение их обоих, как это и оказалось в реальной жизни.
Я твоей поверил красоте, -
Профиль Твой Господь в минуту гнева
Начертал на ангельском щите.
К Вечеру (1910).
Царское Село (зачеркнуто).
Париж.
Еще одной подобной "парой", на мой взгляд, являются "кариатида" (холст, масло. 1911 г., Дюссельдорфский музей) и стихотворение "Надпись на неоконченном портрете" (см. илл. № 6):О, не вздыхайте обо мне,Обсуждая со мной это стихотворение, поэт А.Найман, исследователь творчества Ахматовой согласился, что в позе кариатиды никто из известных художников, кроме Модильяни, ее не изображал и что стихотворение обращено к художнику мужчине, а не к женщине (например, к А. Экстер) как допускает это другой ахматовед Роман Тименчик. О существовании "Кариатиды" никому не было известно, поэтому считалось, что в стихотворении имеется в виду вымышленный ею портрет43. Теперь когда мне удалось найти именно холст ("Анна Андреевна вряд ли перепутала бы холст с бумагой", - сказал А. Найман, зная только о карандашном рисунке44), я с уверенностью могу утверждать, что она ничего "не перепутала".
Печаль преступна и напрасна,
Я здесь на сером полотне
Возникла странно и неясно.
Взлетевших рук излом больной,
В глазах улыбка исступленья,
Я не могла бы стать иной
Пред горьким часом наслажденья.
Он так хотел, он так велел
Словами мертвыми и злыми.
Мой рот тревожно заалел,
И щеки стали снеговыми.
И нет греха в его вине,
Ушел, глядит в глаза другие,
Но ничего не снится мне
В моей предсмертной летаргии.
(1912 ?)
Несколько вариантов "кариатид", выполненных маслом на холсте, а также множество подготовительных рисунков к ним. сделанных с натуры и по памяти, находятся в музеях Японии и в частных коллекциях. "Надпись на неоконченном портрете" - это одновременно и реальный факт, - сцена прощания "пред горьким часом наслажденья", - и реальная работа Модильяни - незаконченный серый холст "Кариатиды", поза которой точно передана строкой "Взлетевших рук излом больной..." Стихотворение кончается предчувствием страданий, по силе равным "предсмертной летаргии".
Если после расставания в 1910 г. в ее стихах появляется драматическая нота, то в 1911 г. предчувствия, как всегда, ее не обманывали: она рассталась с ним навсегда и воспринимала это как трагедию своей жизни. После второго возвращения из Парижа Ахматова в 1911 г. пишет стихотворение "Похороны": "Я места ищу для могилы. / Не знаешь ли, где светлей?.." И дальше, как и во многих других, о грехе: "Она бредила, знаешь, больная, / Про иной, про небесный край, / Но сказал монах, укоряя: / "Не для вас, не для грешных рай". Может быть, именно тогда и возник "шекспировский слой" в ее поэзии, который по мнению Наймана, был еще и знаком "английской темы", связанной с Б. Анрепом, с которым Ахматова познакомилась гораздо позже, в 1914 г45. Источником "шекспировской темы" могла быть ее собственная трагедия, пустившая корни в ее поэзии. Мой термин "рассеян" понравился Найману, когда я высказала мысль о том, что образ Модильяни рассеян в поэзии Ахматовой. Весной 1911 года, будучи в Париже, она пишет:И это юность - светлая пора...Именно ощущение конца жизни от предстоящей разлуки описано в другом стихотворении - "Песня последней встречи" (1911). Интересно, что желание умереть испытывает также и тот, с кем пришла прощаться героиня стихотворения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Да лучше б я повесилась вчера
Или под поезд бросилась сегодня.
Весна 1911
ПарижТак беспомощно грудь холодела,Слова "я обманут моей унылой, переменчивой, злой судьбой" явно указывают на Модильяни, который, как известно, считал себя проклятым художником - "peintre maudit"46. Кроме того, нищета, неустроенность, частые переезды с одного места на другое, недоедание, слабое здоровье и начало самого губительного - гашиш и алкоголь - постоянно сопутствовали ему в его парижской жизни.
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.
Показалось, что много ступеней,
А я знала - их только три!
Между кленов шепот осенний
Попросил: "Со мною умри!
Я обманут моей унылой,
Переменчивой, злой судьбой".
Я ответила: "Милый, милый!
И я тоже. Умру с тобой..."
Это песня последней встречи.
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем.
Много лет спустя Ахматовой было интересно, какое впечатление производила на молодое поколение трагедия и тайна ее жизни. Пожалуй, только И. Бродский определил это точнее всех, хотя и рассмешил ее: "Ромео и Джульетта в исполнении персон царствующего дома"47. Модильяни вызывал к себе подобное отношение не только у Ахматовой. Жанна Хебютерн в возрасте 22 лет, "не захотевшая пережить разлуку с ним", как написано на могильной плите, покончила жизнь самоубийством на следующий день после его смерти и похоронена в одной могиле с Модильяни.
Появление темы смерти в первом же сборнике стихов молодой Ахматовой было воспринято как повышенная чувствительность, к которой стремились члены "Общества обреченных на смерть". "В Александрии, - начинает свою вступительную статью к сборнику "Вечер" М.Кузмин, - существовало общество, члены которого для более острого и интенсивного наслаждения жизнью считали себя обреченными на смерть" 48. Недаром Ахматова писала в последние годы своей жизни: "У поэта существуют тайные отношения со всем, что он когда-то сочинил, и они часто противоречат тому, что думает о том или ином стихотворении читатель <...> То же, о чем до сих пор так часто упоминают критики, оставляет меня равнодушной"49. Она критически отнеслась и считала слабой статью Кузмина. Была несогласна с пророческой статьей В. Недоброво.
Ахматова оберегала свою тайну, так и не открыв ее никому. Тайна была формой ее поведения, образом мышления, темой творчества. "Без тайны нет стихов". Она играла ею, дразнила, привлекала, отталкивала, но так и не открыла. Это стало особенно очевидным в конце жизни. За два года до смерти она писала, что Найман "говорит о моих стихах совсем не то, что о них говорили или писали (на многих языках) в течение полувека <...> Про отдельные стихи он знает то, чего не знает никто, и я всегда боюсь читан, ему новое <...> Это так не похоже на все остальное, с чем приходится бороться почти каждый день"50. "Она оставляла о себе воспоминание с секретом", - вспоминал Найман в своей книге об Ахматовой51.
Ей были интересны и подвластны осмыслению "запретнейшие зоны естества"52. В этом смысле творческие устремления Ахматовой и Модильяни полностью совпадали, Еще в 1907 году он письменно изложил свои взгляды, которые дают основание считать его предтечей сюрреализма: "То, чего я ищу, не является реальным или нереальным, но подсознательным, тайной, в которой заключено инстинктивное начало человеческой расы". О подсознательном и инстинктивном, как об идее новой художественной школы, Бретон и Аполлинер заговорили намного позже53. У Ахматовой и Модильяни общими были не только взгляды, отношение к поэзии и понимание ее. У них были одинаковые особенности психики, пристрастия и даже заболевания (у Ахматовой в молодости был обнаружен туберкулез, Модильяни умер от туберкулеза). "Как я теперь понимаю, его больше всего поразило во мне свойство угадывать мысли, видеть чужие сны и прочие мелочи, к которым знающие меня давно привыкли. Он все повторял: "On communique" / О, передача мыслей /. Часто говорил: "II n'y a que vous pour realiser cela" / Это умеете только вы"54.
Несомненно, Ахматова легко его понимала и даже догадывалась о том, чего он не говорил, а передавал ей мысленно ("О, передача мыслей"). Конечно, такие чувства они переживали впервые. "О, это умеете только вы!" - говорил Модильяни55. "Я говорю сейчас словами теми, что только раз рождаются в душе", - писала Ахматова.
Лирическая героиня в ранней поэзии Ахматовой с самого начала имеет определенный социальный статус: она - замужняя женщина, чья любовь греховна. Все непереносимые мучения героини не только от любви или разлуки с любимым, но еще и от осознания греха. Лирический герой тоже наделен характерными чертами: он сероглазый, небольшого роста, странный, далекий, влюбленный, нежный, художник. Живут они в разных странах, встретились дважды и расстались навсегда. И, главное, он лучше, чем ее избранник, муж:Дни томлений острых прожитыСтихи: "Может быть, лучше, что я не стала Вашей женой", - наводят на мысль о том, что такой возможности она не исключала. Меня упрекнули в излишней "увлеченности предметом", но, возможно, именно эта увлеченность и помогла мне проследить все этапы отношений моих героев. Вот как это было. Они встретились в Париже в 1910 году. Она приехала туда с мужем через неделю после свадьбы (!). Она пишет стихи, муж - тоже. А тот, третий, тоже пишет стихи, но скрывает это. Он - художник. Она - "не красавица, она больше, чем красавица"56. Он - "не аристократ, он больше, чем аристократ"57. Самый момент их встречи был ослепительным:
Вместе с белою зимой.
Отчего же, отчего же ты
Лучше, чем избранник мой?Хочешь знать, как все это было? -Кроме ошеломляющей простоты, здесь обращают на себя внимание первые признаки будущей "чернокнижной" темы: "Еще тогда", то есть в ее прошлой жизни. В другом стихотворении момент встречи сравнивается с "укусом звенящей осы" (интересно, что время одно и то же - 3 часа):
Три в столовой пробило,
И, прощаясь, держась за перила,
Она словно с трудом говорила:
"Это все... Ах, нет, я забыла,
Я люблю вас, я вас любила
Еще тогда!" -
"Да".Я сошла с ума, о мальчик странный,Кстати, только на одном рисунке 1911 года (см. илл. № 2) изображена ее рука с гладким кольцом. В один и тот же день, 9 ноября 1910 г., вскоре после возвращения из Парижа, написаны два стихотворения, адресатом которых вряд ли мог быть один и тот же человек. "Он любил..." - в нем говорится о чуждой душе мужа, который любил всего лишь "три вещи":
В среду, в три часа!
Уколола палеи безымянный
Мне звенящая оса.
Я ее нечаянно прижала,
И, казалось, умерла она,
Но конец отравленного жала
Был острей веретена.
О тебе ли я заплачу, странном,
Улыбнется ль мне твое лицо?
Посмотри! На пальце безымянном
Так красиво гладкое кольцо.Он любил три вещи на свете:И рядом другое, обращенное... К кому?
За вечерней пенье, белых павлинов
И стертые карты Америки.
Не любил, когда плачут дети,
Не любил чая с малиной
И женской истерики.
...А я была его женой.На столике чай, печения сдобные,Старинная примета о кольце ("Мои губы дотронулись...") была хорошо известна Ахматовой:
В серебряной вазочке драже.
Подобрала ноги, села удобнее,
Равнодушно спросила: "Уже?"
Протянула руку. Мои губы дотронулись
До холодных гладких колец.
О будущей встрече мы не условились.
Я знал, что это конец.Если кто мне станет мил,Неожиданная концовка - мужской род вместо женского в последней строчке - прием, часто встречающийся в ее поэзии, так же, как и умышленная путаница времен года, цвета ее глаз и т. п. "Изменился синий цвет глаз моих веселых", "и зеленый, продолговатый, очень зорко видящий глаз". Поза ("Подобрала ноги, села удобнее... Протянула руку...") очень похожа на ту, которую изобразил Модильяни на этом рисунке (см. илл. № 7).
Камень в перстне поцелую
И победу торжествую.
Ощущение, что встреча окажется роковой, высказано в двух не вошедших в "Поэму" строфах, написанных в конце 50-х годов:У него печальное свойствоЕсли в конце жизни роковым стал образ Модильяни, которого она впервые назвала по имени в своей "Поэме", то в 1910 году роковой женщиной была она сама. "И для кого эти жуткие губы стали смертельной отравой..." ("Старый портрет", 1910 г.). В другом стихотворении также предсказываются возможные беды, подстерегающие сероглазого юношу:
Даже в сон мой вносить расстройство
И быть многих бедствий виной...Я смертельна для тех, кто нежен и юн.Гумилев называл Ахматову "колдуньей":
Я птица печали. Я - Гамаюн.
Но тебя, сероглазый, не трону, иди.
Глаза я закрою, я крылья сложу на груди,
Чтоб, меня не заметив, ты верной дорогой пошел.
Я замру, я умру, чтобы ты свое счастье нашел..."
Гак пел Гамаюн среди черных осенних ветвей,
Но путник свернул с осиянной дороги своей.
7 декабря, 1910Из логова змиева,Она и была такой, ее способность предчувствовать, предвидеть, предугадывать была феноменальном. Например, она предсказала месяц своей смерти. "Канатная плясунья, как ты до мая доживешь?" (1911 г.). "Не жаль, что ваше тело растает в марте, хрупкая Снегурка!" (1911 г.). Ахматова умерла 5 марта 1966 г.
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью.
В поэзии Ахматовой все стихотворения, тайным адресатом которых я предполагаю Модильяни, укладываются в определенные временные рамки и выстраиваются в лирический сюжет: встреча, разлука, ожидание новой встречи, ощущение греха, нелюбовь к мужу, измена. В прямой или завуалированной форме стихи отражают события реальной жизни. Я уже приводила примеры совпадений в творчестве Ахматовой и Модильяни, условно названные мною "парами". Теперь мне бы хотелось обратить внимание на совпадения, то есть тоже "пары", обнаруженные мной в поэзии и прозе Ахматовой и подтверждающиеся фактами ее биографии. В своем очерке она пишет: "В 1910 году я видела его чрезвычайно редко, всего несколько раз..."58 Может быть, об этом строки:О, как вернуть вас, быстрые недели"А ты, мой дальний, неужели / Стал бледен и печально-нем?.." В очерке о том же: "Я сама заметила в нем большую перемену, когда мы встретились в 1911 году. Он весь как-то потемнел и осунулся"59. В одном из стихотворений как бы пересказывается его сон о ней:
Его любви, воздушной и минутной!Бледный лоб чадрой лиловой сжат.Предположение, что героиня этого стихотворения - сама Ахматова, подтверждается еще и указанием на "лиловый" цвет, который в поэзии всегда будет ее цветом. ("И кажется лицо бледней / От лиловеющего шелка. / Почти доходит до бровей / Моя незавитая челка"). "Пытка встреч еще неотвратима..." - это, очевидно, то, ради чего было написано стихотворение, последняя строка которого: "Я люблю и не была любима", - выражает тайну героини. Но почему пытка? Конечно, они вынуждены были встречаться редко и тайно: "...он <...> не подошел ко мне на выставке, потому что я была не одна, а с друзьями"60. Или: "В синеватом Париж тумане, / И, наверно, опять Модильяни / Незаметно бродит за мной..." И снова в очерке: "...и часто, заслышав его шаги в сонной тишине улицы, я, оторвавшись от стола, подходила к окну и сквозь жалюзи следила за его тенью, медлившей под моими окнами"61.
Ты со мною. Тихая, больная.
Пальцы холодеют и дрожат,
Тонкость рук твоих припоминая.
Я молчал так много тяжких лет.
Пытка встреч еще неотвратима.
Как давно я знаю твой ответ:
Я люблю и не была любима.Сочтенных дней осталось мало,В стихотворении "Алиса" также можно проследить параллель между переживаниями героини и биографией поэтессы, а "забытый весенний сон" - одна из точек пересечения этих параллелей:
Уже не страшно ничего,
Но как забыть, что я слыхала
Биенье сердца твоего?
Спокойно знаю - в этом тайна
Неугасимого огня.
Пусть мы встречаемся случайно
И ты не смотришь на меня.
(1910-е годы)О Алиса! дай мне средство,Но почему "он в короне"? Может быть, он и есть "сероглазый король", смерть которого уже однажды была предсказана: "Знаю, таким вот, как ты, сероглазым, весело жить и легко умирать". Видимо, неслучайно сюжетное сходство стихотворений "В лесу" и "Сероглазый король".
Чтоб вернуть его опять;
Хочешь, все мое наследство,
Дом и платья можешь взять,
Он приснился мне в короне...О, страшен, страшен конец рассказаИ еще - знакомые приметы и узнаваемые черты:
О том, как умер мой жених...
Не на кровавом поединке
И не в сраженьи, не на войне,
А на пустынной лесной тропинке,
Когда влюбленный шел ко мне.Снова со мной ты. О мальчик-игрушка!"Мальчик-игрушка", оказывается, был сероглазым; за него можно было отдать "все наследство"; он снился "в короне" или как жених, которого убили "не на кровавом поединке", а когда он "влюбленный шел ко мне"; он же - король, причина "безысходной боли". Все это достаточно убедительные указания на то, что их прототипом был один и тот же человек, навсегда оставшийся в памяти Ахматовой "совсем не похожим ни на кого на свете". "И все божественное в Модильяни только искрилось сквозь какой-то мрак"62.
Буду ли нежной опять, как сестра?
В старых часах притаилась кукушка.
Выглянет скоро и скажет: "Пора".
Чутко внимаю бездумным рассказам.
Не научился ты только молчать.
Знаю, таким вот, как ты, сероглазым
Весело жить и легко умирать.
"Сероглазый король" был написан в 1910 году. Успех, выпавший на долю этого стихотворения, раздражал Ахматову63. Оно было примечательно тем, что в нем впервые открыто прозвучала тема адюльтера (героиня - замужняя женщина). Если рассматривать его в сравнении с другими, тематически сходными, то оно приводит нас к таким стихам, как "Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнем...". Становится понятным, что строки "Для тебя в окошке створчатом / Я всю ночь сижу с огнем" адресованы не мужу.
Несмотря на предостережения, содержащиеся в комментариях к ранним стихотворениям, "не понимать буквально и не связывать их с автобиографическими фактами"64, я все-таки, раз вступив на этот "порочный" путь, сойти с него не соглашаюсь. И да будут мне оправданием слова В.Срезневской о том, что "в каждом стихотворении Ахматовой - конкретный факт". Муж, конечно, не хлестал ее в буквальном смысле "узорчатым, вдвое сложенным ремнем". Но известен факт их ссоры, когда в руки Гумилева попало письмо Модильяни. П.Лукницкий в своих воспоминаниях рассказывает: "По возвращении из Парижа А.А. подарила Н.С. книжку Готье. Входит в комнату - он белый сидит, склонив голову. Дает ей письмо... Письмо это прислал А.А. один итальянский художник, с которым у А.А. ничего решительно не было... Но письмо было сплошным символом..."65. В 1910 и 1911 годах не было ни Анрепа, ни Пунина, ни Гаршина, ни Берлина, в которых многие пытаются обнаружить прототип. Были только Гумилев и Модильяни.
В Париже 1911 года "пьяным", "беспутным и нежным" мог быть только Модильяни:Мне с тобою пьяным весело."Мне с тобою пьяным весело..." и "Я ни разу не видела его пьяным, и от него не пахло вином..."66 - одно из несоответствий, на которые я обратила внимание. Интересно, что во всех стихотворениях описывается только то, что предшествует встрече: ожидание, тоска, радость, ощущение греха... О самих же встречах не говорится ничего.
Смысла нет в твоих рассказах,
Осень ранняя развесила
Флаги желтые на вязах.
Мы хотели муки жалящей
Вместо счастья безмятежного...
Не покину я товарища
И беспутного и нежного.
1911, Париж.
Прощанию посвящены "Песня последней встречи", прославившая Ахматову в не меньшей степени, чем "Сероглазый король", и "Надпись на неоконченном портрете", герой которого художник. Этой же теме посвящены и другие стихотворения тех лет:Мы прощались как во сне,Переписка началась после возвращения Ахматовой из Парижа. "В 1910 году я видела его чрезвычайно редко. <...> Тем не менее он всю зиму писал мне"67. Это говорит о том, что за "чрезвычайно" редкие встречи произошло нечто грандиозное в жизни обоих. По моим предположениям, основанным на дате стихотворения "Сегодня мне письма не принесли...", переписка могла продолжаться и после второй встречи, и даже позже...
Я сказала: "Жду".
Он, смеясь, ответил мне:
"Встретимся в аду".Он был со мной еще совсем недавно,Здесь два раза повторяется: "Он был со мной еще совсем недавно..." - на ноте, близкой к отчаянию. Действительно, он был с ней совсем недавно - весной 1911 года. Ожидание писем причиняет мучения, сравнимые только с "предсмертной болью":
Такой влюбленный, ласковый и мой,
Но это было белою зимой.
Теперь весна, и грусть весны отравна.
Он был со мной еще совсем недавно...И страшно мне, что сердце разорвется,В первой строфе "безысходной болью" дважды повторяются слова: "Сегодня мне письма не принесли..." Об этом есть и в автобиографической прозе "Слепнево": "Я ждала письма, которое так и не пришло - никогда не пришло. Я часто видела это письмо во сне; я разрывала конверт, но оно или написано на непонятном языке, или я слепну..." И дальше: "А за плечами еще пылал Париж в каком-то последнем закате (1911)"68. Письмам и тайным символам посвящено и еще одно стихотворение 1910 г.:
Не допишу я этих нежных строк...Если в небе луна не бродит,"Смутный узор подписей" и символы, о которых писал Лукницкий, должны были быть понятны Ахматовой. Быть может, о них слова:
А стынет - ночи печать...
Мертвый мой муж приходит
Любовные письма читать.
В шкатулке резного дуба
Он помнит тайный замок,
Стучат по паркету грубо
Шаги закованных ног.
Сверяет часы свиданий
И подписей смутный узор.
Разве мало ему страданий,
Что вынес он до сих пор?Дьявол не выдал. Мне все удалось.В другом варианте - "тайные знаки". "Тайные знаки" можно увидеть и на тех рисунках Модильяни, где изображена, по моим предположениям, Ахматова (см. илл. № 8 и № 9).
Вот и могущества явные знаки.
В этих двух рисунках портретное сходство сведено до обозначения отдельных характерных черт лица. Что же касается позы, то о ней сама Ахматова когда-то сказала: "Я могла, изогнувшись, коснуться затылком пола. Могла лечь на живот и прислонить голову к ногам"69. Буквы слова VENUS (богиня красоты), расположенные в хаотическом беспорядке, подтверждают мысль о тайной сфере общения между художником и его музой. Египетский тюрбан на одном из них - еще одна деталь, совпадающая с описанием Ахматовой рисунков Модильяни: "Рисовал мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц…"70 Третий рисунок относится к этой же группе. Только благодаря Модильяни можно увидеть теперь, какой она была гибкой: "Циркачи говорили, что если бы я с детства пошла учиться в цирк - у меня было бы мировое имя"71 (см. илл. № 10 и 11).
Один из рисунков представляет собой, на мой взгляд, неотправленное письмо и, может быть, последнее. Датировано письмо 1913 годом. На одной половине тетрадного, в мелкую клетку, сложенного пополам листа - рисунок головы. На другой - эзотерический текст, каждая строчка которого кончается алхимическим знаком. Причем каждый такой знак представляет собой, видимо, тоже фразу, так как стоит после точки в строке и заканчивается тоже точкой. Попытка расшифровать этот текст методом алхимиков, "при отсутствии другой документации", признается самими авторами каталога коллекции П. Александра, "неполной"72 (см. илл. № 12 а и б).
По-русски мой перевод звучит так:Как змея выползает из своей кожи,Я предполагаю, что нельзя ограничиться только расшифровкой оккультного содержания этих строк, так как они, совершенно очевидно, адресованы той, чья голова изображена на другой половине листа.
Гак вы освободите себя от греха.
Баланс посредством взаимопроникновения
противоположностей.
Человек рассматривается в трех аспектах.
Свет!73
Мысль о том, что Модильяни сравнивал свое освобождения от дьявола со змеей, которая вылезает из своей кожи, может иметь еще и другие аллюзии. Рисуя Ахматову в виде "канатной плясуньи", держащейся за трапецию, а также в позе, изображающей "не то акробатку, не то балерину с левой ногой у головы", он знал наверняка, что она могла принимать также и позу змеи. В молодости, когда "играли в цирк", она "выступала как женщина-змея; гибкость у нее была удивительная - она легко закладывала ногу за шею"74. (См. илл. 13 а и б).В комнате моей живет красиваяТема "дьявола" в творчестве Ахматовой и Модильяни до сих пор никем не изучена, хотя она может многое прояснить даже в их поведении. В таинственных строчках Модильяни рядом с рисунком женской головы, как мне кажется, присутствует несколько слоев. Их подтекст связан, во-первых, с "Песнями Мальдорора", которым приписывалось пагубное, почти наркотическое воздействие на Модильяни; во-вторых, в сознании Модильяни образ Ахматовой ассоциировался с образом Мальдорора, дьявола, от которого он хотел освободиться, как от наваждения:
Медленная черная змея;
Как и я, такая же ленивая
И холодная, как я.
Вечером слагаю сказки чудные
На ковре у красного огня,
А она глазами изумрудными
Равнодушно смотрит на меня.
Ночью слышат стонущие жалобы
Мертвые, немые образа...
Я иного, верно, пожелала бы,
Если б не змеиные глаза.
Только утром снова я, покорная,
Таю, словно тонкая свеча...
И тогда сползает лента черная
С низко обнаженного плеча.Я была его запретной книжкой,В-третьих, он и себя отождествлял с образом Мальдорора, о чем свидетельствует рисунок "кариатиды", подаренный Н. Хамнет с надписью "Мадам от Мальдорора"75. Этот загадочный текст мог быть даже зашифрованной поэмой, посвященной ей. Последнее слово трактуется как искажение слова "свет" на иврите, по звучанию похожего на "aour". По моим догадкам, это слово "Amour" (любовь), в котором специально пропущена буква "m" для конспирации. Весь текст написан по-французски, и вряд ли тот, к кому он адресован, мог знать иврит.
К ней ты черной страстью был палим...
В 15 лет, еще в Италии Амедео со своим старшим товарищем бывал на спиритических сеансах. Как вспоминает его мать, этот же товарищ оказал на ее сына пагубное влияние и вовлек его в интимные отношения.
Модильяни привез из Италии в Париж две ранние акварели - мужчина и женщина во время спиритических сеансов. На одной из них мужчина держит руки, расставив пальцы для "столоверчения"77. Ахматова, бывая дома у Модильяни, не могла не видеть этих акварелей. Именно такое положение пальцев она потом показывала Найману и Бродскому (два сложенных вместе больших пальца обеих рук и расставленные остальные), говорила, что за этот жест в свое время давали 5 лет, и советовала им прочесть статью В. Соловьева о спиритизме78. В Париже Модильяни продолжал посещать спиритические сеансы со своим другом, поэтом и художником Максом Жакобом, но говорил об этом с большой осторожностью. Мог ли Модильяни брать с собой на спиритические сеансы Ахматову? Скорее всего, да. В этом контексте фразы "О, это можете только вы", "О, передача мыслей" приобретают новый смысл и указывают на особые стороны их отношений, на неизученную область их знаний, которые имели более серьезное влияние на их жизнь и творчество, чем это принято считать. Безусловно, своими взглядами на искусство и поэзию Модильяни делился с Ахматовой и давал ей читать "Песни Мальдорора" Лотреамона, творчество которого в России до последних лет было неизвестно79. Эту книгу Модильяни считал самым ценным своим сокровищем и, по свидетельству Ахматовой, "постоянно носил в кармане"80. В очерке Ахматова упоминает о Лотреамоне нарочно вскользь, как вообще говорила она о многих важных и тайных вещах. Но не по поводу ли этих строк из очерка она пишет в "Прозе о поэме": "Стала ли она (т. е. поэма) понятна, - не думаю!.. Где-то в моих прозаических заметках мелькают какие-то лучи - не более".Не отбиться от рухляди пестрой.Принято считать, что под маской Калиостро скрывается "главный антагонист Ахматовой" - М.А.Кузмин. Так оно, конечно, и было в первой редакции "Поэмы" ("Это старый чудит Калиостро за мою к нему нелюбовь"). Но когда во второй редакции Калиостро превратился в Сатану, он уже не мог не вызвать в памяти своего лотреамоновского двойника Мальдорора, отчего в следующей строфе естественным образом возник Модильяни со своим "печальным свойством".
Это старый чудит Калиостро -
Сам изящнейший сатана,
Кто со мной над мертвым не плачет,
Кто не знает, что совесть значит
И зачем существует она.
Когда-то был сделан фильм по "Песням Мальдорора", ставился балет "Мальдорор". Ахматова говорит о "Поэме без героя": "И один Бог знает, что я писала: то ли балетное либретто, то ли киношный сценарий". У нее даже есть наброски либретто по "Поэме".
Лотреамон описывал в "Песнях Мальдорора" мир полувидений-полукошмаров, мир ангелов, гермафродитов, гомосексуалистов, мир сумасшедших и странных детей. Эта книга оказала огромное влияние на таких писателей, как Андре Жид, Андре Бретон, Генри Миллер. "Она действовала как опиум или кокаин на поэтов и художников, как защита от современной жизни..."81 Модильяни находил у себя много общего с Лотреамоном, который был погружен в состояние подсознательных эмоций и страдал постоянной бессонницей. Сюрреалисты 20-х годов считали "Песни Мальдорора" своей библией. Но, кажется, Модильяни больше, чем другие, находился под ее влиянием: ома одновременно возбуждала и уничтожила его творческое воображение82.
Куратор музея Гугенхейма Сюзан Кросс (Susan Cross) любезно прислала мне материалы, где описан эпизод, когда живописец Агустус Джон и скульптор Яков Эпштейн спасли Модильяни от голодного обморока. Они застали его лежащим на полу без сознания. А.Джон купил тогда у Модильяни две скульптурные головы, одну из которых он потом написал в своем натюрморте "В память Модильяни". Именно эта женская голова находится сейчас в музее Гугенхейма. В благодарность Модильяни подарил ему самое ценное, что у него было, - "Песни Мальдорора" (один из своих двух экземпляров).
В натюрморте А.Джон кроме скульптуры изобразил гитару, кактус, шаль и книгу. Это были символы, связанные с Модильяни: книга, "Песни Мальдорора" - его библия; кактус - "Цветы зла" Бодлера, любимого поэта Ахматовой и Модильяни; гитара - инструмент, на котором любил играть Модильяни; спадающая шаль - руины времени"83.
Уехав в Италию, чтобы работать с мрамором, Модильяни попросил Поля Александра прислать ему "Мальдорора". Живя в уединении, постоянно перечитывая эту книгу, Модильяни освобождался от преследовавших его идей84. 6 мая 1913 года он посылает открытку со словами: "Счастье - это ангел с печальным лицом. Я воскрешен". По-видимому, это означало отказ от мечты воплотить свои замыслы в скульптуре. Из Италии он не привез ни одной работы и практически к скульптуре больше не возвращался. Это было, конечно, освобождением не только от "дьявола", но и от "наваждения", связанного с образом Ахматовой.
"Стал мне реже сниться, слава Богу, / Больше не мерещится везде", - писала Ахматова, возможно, о нем. Освобождением также звучат эти и следующие строчки: "Исцелил мне душу Царь Небесный / Ледяным покоем нелюбви".
То, что Модильяни не смог физически осуществить в скульптуре, он перенес на холсты. Характерные черты внешности Ахматовой продолжают присутствовать в его работах - в рисунках и живописи. Но стиль, динамика линий "ню" и кариатид приобрели новый ритм, наполнились новой энергией, приобрели движение, как будто освободившись от чего-то, что мешало им двигаться, быть гибкими и пластичными. Появляется новый, более обобщенный и условный тип лица Ахматовой, в котором персональные черты выполняют более декоративную роль и не имеют той физиономической точности, как раньше. Но путь к такому типу - это путь от реалистических рисунков и всевозможных их трансформаций до более поздних работ, которые выглядят как ее портретное эхо. Про рисунок 1911 года Ахматова пишет: "...в нем, к сожалению, меньше, чем в остальных, предчувствуются его будущие "ню"85.
В 1910-1911 годах в палитре Модильяни появляется новый цвет. Он впервые использует его в нескольких кариатидах, при этом лицо и фигуру он пишет монохромно. Разные оттенки глубокого, интенсивного красного цвета пламенеют на его полотнах. В такой манере Модильяни никогда не писал никого, кроме Ахматовой. Цвет, конечно, был выбран не случайно и таким образом выражал его чувство к ней. Как будто в той же тональности пламенеющих красок Модильяни звучат слова Ахматовой: "За плечами еще пылал Париж в каком-то последнем закате. (1911)..."86
С годами стиль Модильяни освобождается от очевидных влияний и "становится столь самобытным, что ничего не хочется вспоминать, глядя на его холсты", - писала Ахматова87.
Феномен "Ахматова - Модильяни" стал мне более понятен благодаря работам современных западных искусствоведов: М.Шапиро, В.Рубина, Д.Ричардсона, Р. Розенблюма и других. Пользуясь их методом, я смогла атрибутировать многие рисунки, живопись и скульптуры Модильяни, назвав их портретами Ахматовой в современном толковании этого термина. Новый подход предполагает "фундаментальную революцию в самой идее сходства", которое понималось французскими художниками начала века в более широком, поэтическом смысле, с большими метафорическими возможностями. Символическая традиция, заимствованная у Бодлера, освобождала их от необходимости буквального воспроизведения внешнею сходства. Главным было, по утверждению Маларме, "описать не вещь саму, а эффект, который она производит"88.
В 1910-1912 годах Модильяни создал целую серию портретов, которые нельзя назвать портретами в общепринятом смысле этого слова. В.Рубин назвал портреты такого типа трансформациями или концептуальными портретами. В отличие от авангардистов, Модильяни никогда не разрушал портретного сходства, полностью или частично сохраняя характерные черты.
Беседы с Ричардсоном помогли мне понять совершенно новую, до сих пор никому неизвестную сферу знаний Модильяни, связанную с теорией С. Пеладона (Sar Peladan) - оккультиста, новеллиста, эстета, археолога, критика, философа, драматурга, импресарио. Он оставил более заметный след в искусстве и литературе своего времени, чем это обычно признается. По его теории, "женщина владеет мужчиной, а дьявол владеет женщиной; гермафродизм является пластической идеей - эстетикой наивысшей метафизики"89. Эта теория оказала огромное влияние на Гогена, Пикассо и многих других художников, как теперь выясняется, и на Модильяни тоже. Несколько рисунков Ахматовой в виде гермафродита и самого себя с прической Ахматовой до сих пор были никому непонятны, и ни в каких исследованиях о Модильяни эта тема не возникала. (См. илл. № 14.)
Все перечисленные влияния - тема будущего серьезного исследования жизни и творчества Ахматовой и Модильяни. Толкование природы и символики поэзии Ахматовой сегодня уже невозможно вне анализа творчества Модильяни и их отношений, хотя Бродский высказывал мнение о том, что "это дело сложное, и, скорее всего, ненужное"90.
Уже полвека на Западе существует традиция называть периоды в творчестве художника именем женщины, которая становилась его музой, например, "Период сюрреализма" в творчестве Пикассо называют периодом "Марии-Терезы", так как это вызывает более конкретные визуальные ассоциации. Такой подход оказался оправданным и используется даже в названиях выставок: "Пикассо и плачущие женщины: годы Марии-Терезы Вальтер и Дары Маар"91. Следуя сложившейся традиции, я предлагаю назвать 1910-1913 годы "Периодом Ахматовой в творчестве Модильяни".
Примечания
1. Noel Alexandre. The Unknown Modigliani: Drawings From the collection of Paul Alexandre, New York: 1993, p. 111. Здесь и далее - перевод иностранных текстов мой. Наталья Лянда. вверх
2. Там же, р. 9. Francis Bergot - Conservateur general du Patrimoine, charge de Musee des Beaux - Arts de Rouen. вверх
3. Из частной беседы с автором. Джон Ричардсон - искусствовед, автор книг о Манэ, Браке и Пикассо, основатель Музея кубизма во Франции, организатор 9 выставок Пикассо в Нью-Йорке. вверх
4. Анна Ахматова. Сочинение в 2-х томах. Москва, 1996, т. 2, стр. 144. вверх
5. Там же, стр. 144. вверх
6. Юрий Анненков. Дневник моих встреч. Нью-Йорк, 1966, стр. 118, 123. вверх
7. Анна Ахматова. Сочинения в 2-х томах. Москва, 1996, т. 2, стр. 356. вверх
8. О. Мандельштам. Ленинград, 1996, стр. 84. вверх
9. А. Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Москва, 1989, стр. 9. вверх
10. Впервые текст мемуарного очерка Ахматовой о Модильяни увидел свет не на русском, а на итальянском языке (в переводе А. Рипеллино) в марте 1964 г. в № 27 журнала "L' Europa Letteraria" (Литературная Европа). вверх
11. См.: А.Докукина-Бобель. Его египтянка. Анна Ахматова и Амедео Модильяни. / Всемирное слово, Санкт-Петербург, стр. 57-58. вверх
12. Там же, стр. 52. вверх
13. Там же, стр. 52. вверх
14. Там же, стр. 52. вверх
15. Ю.Молок. Портреты Анны Ахматовой. Каталог Анна Ахматова. К 100-летию со дня рождения. Образ поэта - образы поэзии. Талей, 1989, стр. 4. вверх
16. Л.Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Париж, 1976, стр. 34. вверх
17. А. Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Москва, 1989, стр. 113. вверх
18. А.Докукина-Бобель. Его египтянка. Анна Ахматова и Амедео Модильяни. / Всемирное слово, Санкт-Петербург, стр. 59. вверх
19. Анна Ахматова. Сочинение в 2-х томах. Москва, 1996, т. 2, стр. 353. вверх
20. Там же, стр. 354. вверх
21. Д.Вигорелли. Модильяни и Анна Ахматова. / Всемирное слово, Санкт-Петербург, стр. 53-56. вверх
22. Там же, стр. 54. вверх
23. Анна Ахматова. Сочинение в 2х томах. Москва, 1996, т. 2, стр. 145. вверх
24. Из частной беседы с автором. вверх
25. Д.Вигорелли. Модильяни и Анна Ахматова. / Всемирное слово, Санкт-Петербург, стр. 56. вверх
26. Анна Ахматова. Сочинение в 2-х томах. Москва, 1996, т. 2, стр. 145. вверх
27. Noel Alexandre. The Unknown Modigliani: Drawings From the collection of Paul Alexandre, New York: 1993, p. 65. вверх
28. Osvaldo Patani. Amedeo Modigliani. Catalogo Generale. Milano, 1990-1994, 3 vol. вверх
29. A. Werner. Modigliani: The Sculptor. New York: 1962; London: 1965. вверх
30. June Rose. Modigliani: the Pure Bohemian. London: 1990, pp. 77-78. вверх
31. Giancarlo Vigorelli. "Modigliani e Anna Achmatova" Verona, Galleria D' Arte Moderna Modigliani, 1988, pp. 23-29. вверх
32. C. J. Bulliet. The Significant Moderns and Their Pictures. New York: 1936, pp. 76-77. вверх
33. См. В. Виленкин. Амедео Модильяни. Москва, 1969, стр. 75. вверх
34. Анна Ахматова. Сочинение в 2-х томах. Москва, 1996, т. 2, стр. 253. вверх
35. Noel Alexandre. The Unknown Modigliani: Drawings From the collection of Paul Alexandre, New York: 1993, p. 104. вверх
36. Анна Ахматова. Сочинение в 2-х томах. Москва, 1990, т. 1, стр. 402. вверх
37. Там же, т. 2, стр. 276. вверх
38. Анна Ахматова. Сочинение в 2-х томах. Москва, 1996, т. 1, стр. 368. вверх
39. Там же, т. 2, стр. 144. вверх
40. Там же, т. 1, стр. 368. вверх
41. A. Werner. The Life and Art of Modigliani. Commentary. A Jewish Review, May 1953, p. 478. вверх
42. Анна Ахматова. Сочинения в 2-х томах. Москва, 1996, т. 1, стр. 369. См. также: ЦГАЛИ, ф. 13, ex. 5 114, с. 169. вверх
43. Из частных бесед с А. Найманом и Р. Тименчиком. вверх
44. Из частной беседы с А. Найманом. вверх
45. А. Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Москва, 1989, стр. 104. вверх
46. John Richardson. A Life of Picasso. New York: 1991. Vol. II, p. 265. вверх
47. Бродский об Ахматовой. Разговоры с Волковым. Москва, 1992, стр. 35. вверх
48. А. Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Москва, 1989, стр. 230. вверх
49. Анна Ахматова. Сочинения в 2-х томах. Москва, 1996, т. 1, стр. 368. вверх
50. Там же, т. 1, стр. 357. вверх
51. А. Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Москва, 1989, стр. 13. вверх
52. Там же, стр. 55. вверх
53. Noel Alexandre. The Unknown Modigliani: Drawings From the collection of Paul Alexandre, New York: 1993, p. 91. вверх
54. Анна Ахматова. Сочинение в 2-х томах. Москва, 1996, т. 2, стр. 144. вверх
55. Там же, стр. 144. вверх
56. Георгий Адамович. Мои встречи с Анной Ахматовой. Воспоминание об Анне Ахматовой. Москва, 1991, стр. 66. вверх
57. Noel Alexandre. The Unknown Modigliani: Drawings From the collection of Paul Alexandre, New York: 1993, p. 59. вверх
58. Анна Ахматова. Сочинение в 2-х томах. Москва, 1996, т. 2, стр. 144. вверх
59. Там же, стр. 144. вверх
60. Там же, стр. 145. вверх
61. Там же, стр. 147. вверх
62. Там же, стр. 144. вверх
63. Там же, т. 1, стр. 371. вверх
64. Там же, т. 1, стр. 371. вверх
65. П. Н. Лукницкий. Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой. Paris, 1991. т. 1, 1924-1925 гг. Стр. 75. вверх
66. Анна Ахматова. Сочинения в 2-х томах. Москва, 1996, т. 2, стр. 145. вверх
67. Там же, стр. 144. вверх
68. Анна Ахматова. Сочинения в 2-х томах. Москва, 1990, т. 2, стр. 276. вверх
69. Л.Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Париж, 1976, стр. 183. вверх
70. Анна Ахматова. Сочинения в 2-х томах. Москва, 1996, т. 2, стр. 145. вверх
71. Л.Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Париж, 1976, стр. 183. вверх
72. Noel Alexandre. The Unknown Modigliani: Drawings From the collection of Paul Alexandre, New York: 1993, p. 93. вверх
73. Там же, р. 93. вверх
74. В. Неведомская. Воспоминания о Гумилеве. Париж-Нью-Йорк, 1989, стр. 151-160. вверх
75. June Rose. Modigliani: the Pure Bohemian. London: 1990, p. 85. вверх
76. Noel Alexandre. The Unknown Modigliani: Drawings From the collection of Paul Alexandre, New York: 1993, p. 30. вверх
77. Там же, р. 93. вверх
78. А. Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Москва, 1989,стр. 56. вверх
79. Лотреамон (Lautreamont) - настоящее имя: Изидор Дюкас (Ducasse) - поэт, автор "Песен Мальдорора" (1868-69) и "Стихотворений" (1870). вверх
80. Анна Ахматова. Сочинения в 2-х томах. Москва, 1996, т. 2, стр. 150. вверх
81. June Rose. Modigliani: the Pure Bohemian. London: 1990, pp. 117-118. вверх
82. Там же, р. 85. вверх
83. Michael Holroyd. Augustus John. New York: 1996, p. 665. вверх
84. Noel Alexandre. The Unknown Modigliani: Drawings From the collection of Paul Alexandre, New York: 1993, p. 104. вверх
85. Анна Ахматова. Сочинения в 2-х томах. Москва, 1996, т. 2, стр. 148. вверх
86. Анна Ахматова. Сочинения в 2-х томах. Москва, 1996, т. 1, стр. 276. вверх
87. Анна Ахматова. Сочинения в 2-х томах. Москва, 1996, т. 2, стр. 145. вверх
88. W. Rubin. Reflections on Picasso and Portraiture. In: The Catalogue of the Exhibition: Picasso and Portraiture. New York: 1996, p. 16. вверх
89. John Richardson. A Life of Picasso. New York: 1991. Vol. I, pp. 339-340. вверх
90. Бродский об Ахматовой. Разговоры с Соломоном Волковым. Москва, 1992, стр. 35. вверх
91. Robert Rosenblum. Picasso's Blond Muse: The Reign of Marie-Tereze Walter. New York: 1996, p. 337. вверх
Источник: http://www.akhmatova.org/articles/lianda/lianda.htm
Оригинал на сайте Библиотека Александра Белоусенко
Раиса Орлова, Лев Копелев
Мы жили в Москве 1956-1980Часть вторая
Соотечественники
Встречи с Анной Ахматовой
Л. В школе меня считали "знатоком" литературы. Я помнил наизусть много русских, украинских, немецких стихов. Когда в Харьков приезжали Маяковский, Сельвинский, Асеев, старался не пропустить ни одного из их вечеров, восхищался Тычиной, Сосюрой, очень любил Есенина. Но ничего не знал об Ахматовой.
Помнил строки: "Умер вчера сероглазый король...", "Я на правую руку надела перчатку с левой руки..." И представлялась нарядная барыня: большая шляпа, меховое боа. Очень красивая, но красота чужая.
1928 год. Харьковский театр. Маяковский широко, твердо шагал по сцене, широко, твердо стоял. Рубашка без галстука. Пиджак по-домашнему на стуле. ("Я здесь работаю".)
Он читал "Сергею Есенину", "Письмо любимой Молчанова", "Письмо писателя Владимира Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому", "Тамара и Демон"...
Меня огорчало, что он "обижает" Горького, фамильярничает с Пушкиным. Но от стихов о Бруклинском мосте, о взятии Шанхая - холодок восторга. Маяковский был свой, наш. И хлопали мы неистово.
Потом он отвечал на записки - небрежно, иногда брезгливо или сердито. И тогда угол рта оттягивала книзу тяжелая челюсть. Одну записку прочел, насмешливо растягивая слова: "Как вы относитесь к поэ-зии Ахматовой и Цветаевой? Кто из них вам больше нра-вит-ся?"
Сложил листок и - внятной скороговоркой: "Ахматова-Цветаева? Обе дамы одного поля... ягодицы".
На галерке мы громко смеялись. Смеялись и в партере. Но кто-то крикнул: "Пошлость. Стыдитесь!"
Роман Самарин был старше меня на год, но образованнее на много лет. Сын профессора литературы, он рос в благодатной тени отцовской библиотеки. Роман открыл мне Гумилева. И меня завоевали навсегда стихи о капитанах, о Нигере, о храбрецах и таинственных дальних краях.
Ахматова была для нас жена Гумилева, которая тоже писала стихи.
Языческий храм моих мальчишеских и юношеских идеалов был варварски загроможденным капищем. То вспыхивали, то чадно угасали кадильницы перед разнообразными кумирами. Петр Первый и Суворов умещались рядом с Робеспьером и Маратом, Пушкин, Гёте, Шиллер и Диккенс оказывались неподалеку от Желябова и Ленина, так же, как Алексей Константинович Толстой и Тарас Шевченко, Лев Толстой, Владимир Короленко, Чехов, Карл Либкнехт и герои гражданской войны. Маяковский, Есенин, Микола Кулиш, Лариса Рейснер, Роальд Амундсен, Киплинг.
...Нашелся там красный угол и для Гумилева; он оттеснил Блока и опрокинул Брюсова. Для Ахматовой там не было места.
Ее стихи застревали в памяти, вспоминались "под настроение". Но я считал: как ни прекрасны краски, звуки, главное - идеи, содержание слов. Правда, А. К. Толстой, Киплинг, Гумилев были и вовсе "по ту сторону баррикады".
На том же вечере Маяковский отвечал на вопрос о Гумилеве:
- Ну, что же, стихи он умел сочинять, но какие: "Я бельгийский ему подарил пистолет и портрет моего государя". Говорят: "Хороший поэт". Это мало и неправильно. Он был хорошим контрреволюционным поэтом.
О Киплинге у нас писали: "бард британского империализма...", "певец колонизаторов..."
Однако мужественные воинственные стихи Гумилева и Киплинга мне были необходимы почти так же, как "ретроградные" баллады А. К. Толстого.
В двадцатые годы мы, "...надцатилетние", еще не превратились в оказененных, узколобых фанатиков. Рассказ Бунина "Господин из Сан-Франциско" мы разбирали на уроках; читали советские издания Шульгина, Аверченко, мемуары Деникина и Краснова.
Тогда еще допускали, что и классовые враги, и непримиримые идейные противники могут быть бескорыстны, благородны, мужественны. И такой "либеральный объективизм" еще не стал смертным грехом, уголовным преступлением.
Но в последующие годы наш художественный мир быстро скудел. Наступал "великий перелом" - коллективизация, пятилетки, разоблачение вредителей. Новые силы оттесняли и непокорных муз, и недостаточно последовательных "попутчиков". Наши поэтические храмы пустели и закрывались - как и церкви, с которых сбивали кресты, снимали колокола и превращали в склады, в клубы...
В те годы я, кажется, только один раз встретился с именем Ахматовой.
В 1934 году харьковская газета "Пролетарий" праздновала десятилетний юбилей. На банкет, необычайно обильный для той поры (соевые пирожные, мороженое), пригласили не только известных литераторов, но и рабкоров. Рядом с главным редактором сидел почетный гость, помощник прокурора республики Ахматов - моложавый, с "кремлевской бородкой", утомленно-снисходительный партийный интеллигент. На нижнем конце стола вместе с нами, рабкорами, пировал Максим Фадеевич Рыльский. Предоставляя ему слово, тамада-редактор сказал: "Еще недавно мы называли Рыльского "знаменем украинского национализма", но сегодня мы рады приветствовать его в нашей среде как товарища и соратника в борьбе за социалистическое строительство, за победу пятилетки".
Рыльский напевно продекламировал куплет в честь юбилея газеты. А затем прочитал экспромт, встреченный хмельным одобрением:
Хай плаче Анна Ахматова,Прокурор Ахматов исчез в тридцать седьмом году. Анна Ахматова для меня еще долго оставалась "плачущей и блуждающей в тумане".
Блукаючи в сивiм туманi,
А нас поведуть Ахматови
За гранi.
...Март сорок второго. В "Правде" стихи:
Час мужества пробил на наших часах,Негромкое стихотворение прозвучало внятней всех - барабанных, фанфарных, огнестрельных... В моем планшете оно лежало вместе со "Жди меня" и "Землянкой"; позднее всех оттеснил "Теркин".
И мужество нас не покинет.
Тогда казалось, что ахматовские строки волнуют и радуют лишь как подтверждение великой объединяющей правды нашей войны. И она, чужая Прекрасная Дама, с нами заодно - так же, как старые георгиевские кавалеры, как патриарх Сергий, как Деникин и Керенский, призывающие помогать Красной Армии.
Но стихи жили в памяти.
Речь Жданова и постановление ЦК 1946 года я прочел в лагере. Неприятны были брань, хамский тон. Не мог понять, зачем это нужно именно сейчас, после таких побед. Почему именно Ахматова, Зощенко, Хазин и уж вовсе непричастный Гофман - опасны, требуют вмешательства ЦК, разгромных проработок?.. Но тогда у меня были другие мучительные заботы и тревоги. И личные - второй год заключения, дело "за Особым Совещанием" - и общие: послевоенная разруха в стране, начало холодной войны.
Прошло еще десять лет, прежде чем я начал постепенно, спотыкаясь, запинаясь, открывать поэзию Ахматовой.
Р. Впервые я услышала имя и стихи Ахматовой в 1935 году от кого-то из подруг на первом курсе института. С тех пор остались - забылись, потом всплыли - отдельные строки. Строки жили, как фольклор, с голоса. Книги Ахматовой я впервые увидела лет двадцать спустя.
В мое разгороженное на строгие рубрики сознание Ахматова вошла в клеточку "любовные стихи". И я решила: "Об этом мне уже все сказал Блок".
Гумилев, который никогда не был моим поэтом, все же чаще присутствовал в моей юности, чем Ахматова. И сейчас не могу объяснить, почему в моей комсомольской душе так гулко отзывалось
Или, бунт на борту обнаружив,Гумилевские стихи были одним из источников песни "Бригантина", написанной Павлом Коганом. Она стала нашим ифлийским гимном.
Из-за пояса рвет пистолет,
Так, что сыплется золото с кружев
Розоватых брабантских манжет...
Многие современницы Ахматовой воспринимали ее стихи как страницы дневников влюбленной, ревнующей, покинутой и бросающей, оскорбленной женщины. Почти всегда несчастной. Тогда многие любили "по Ахматовой". Осознавали или придумывали свою любовь, свои страсти и беды по ее стихам. Со мною не было ничего подобного.
Ахматова была женой Гумилева. Красавица. Челка. Шаль. Но долго я даже не знала, жива ли она еще.
Постановление ЦК о журналах "Звезда" и "Ленинград" застало меня в поездке. Я тогда работала в ВОКСе, и меня послали с делегацией корейских писателей на Кавказ. У них был переводчик, плохо владевший русским, чуть получше - английским. Мы и переводили вдвоем: разговоры на бытовые темы, вопросы о фабриках Тбилиси и Еревана и туристские выжимки из древней истории. Но в день публикации постановления Ли Ги Ен, глава делегации, спросил меня об Ахматовой. Ответить я не могла. Меня это постановление ЦК не возмутило, не испугало, просто не задело. В моем тогдашнем мире Ахматовой не было. Зощенко я знала гораздо лучше. Читала рассказы, "Голубую книгу" и "Возвращенную молодость". Не очень его любила. Не полюбила и потом. Покоробило в тексте постановления ЦК слово "подонок".
Ругань всегда неприятна. Но раз сказала партия!..
Ахматова пришла ко мне в середине пятидесятых годов. Тогда же я впервые испытала ожог Цветаевой. Эти имена - Ахматова и Цветаева - часто называли рядом. Для меня сначала Цветаева была важнее. А потом стихи и судьба Ахматовой медленно, но неотвратимо прорастали, заполняя все большую часть моей души.
Л. Анну Андреевну Ахматову я увидел впервые в мае 62-года. Меня привела к ней Надежда Яковлевна Мандельштам.
Большой дом на Ордынке, прямо напротив того, где я прожил шесть довоенных московских лет.
Грязная лестница. Маленькая комната в квартире Ардовых. Ахматова - в лиловом халате. Большая. Величественная. Однако полнота рыхлая, нездоровая. Бледно-смуглая кожа иссечена морщинками, обвисла на шее. Четко прорисованный тонкогубый рот почти без зубов. От этого голос, мягко рокочущий, низкий, иногда не мог преодолеть шепелявость...
Но она была прекрасна. Именно прекрасна. Подумать "старуха" было бы дико. Рядом с ней - медлительной, медленно взглядывавшей, медленно говорившей, - сидела Фаина Раневская. Она острила, зычно рассказывала что-то веселое, называла Анну Андреевну "рэбе", и показалась шумной, громоздкой старухой.
Анна Андреевна и Раневская - на тахте. Мы с Надеждой Яковлевной - на стульях, почти вплотную напротив. Никто больше уже не мог бы войти. Некуда.
От смущения и страха я онемел. Что говорить? Куда девать руки и ноги?.. Очень хотел все запомнить. Смотрел, но заставлял себя отводить взгляд, не таращиться. При этом, кажется, глупо ухмылялся. Бормотал какую-то чушь. Раневская вскоре ушла. И Ахматова внезапно спросила, как бы между прочим:
- Хотите, я почитаю стихи? Но только прошу ничего не записывать.
И стала читать из " Реквиема". Я глядел на нее, уже не стесняясь, неотрывно. Должно быть, очень явственным было изумленное восхищение. Она, конечно, все понимала - привыкла. Но любой новый слушатель был ей нужен.
Она читала удивительно спокойным, ровным - трагически спокойным голосом.
Ушла и Надежда Яковлевна. Она продолжала читать.
И если когда-нибудь в этой странеГлаза у меня были мокрые. Она, вероятно, и это заметила.
Воздвигнуть задумают памятник мне...
Сдавленным голосом я попросил:
- Пожалуйста, можно это еще раз?
В те минуты я думал только: "Запомнить побольше".
Она прочла еще раз Эпилог. Музыка стихов рождалась где-то в груди и в глубине гортани. Я уже не слышал шепелявости, не видел ни морщин, ни болезненной грузности. Я видел и слышал царицу, первосвященницу поэзии. Законная государыня - потому так безыскусственно проста, ей не нужно заботиться о самоутверждении. Ее власть неоспорима.
Естественным было бы опуститься на колени. Но у меня достало отваги лишь на несколько беспомощных слов, когда она, помолчав, спросила:
- Вам нравится?
- Если бы вы не написали ничего, кроме этих стихов, вы остались бы самым великим поэтом нашего времени.
Она даже не улыбнулась. А я понял, что ей - поэту и женщине - никакие похвалы, ни поклонение не могут быть избыточны. Десятилетиями ее жестоко обделяли признанием, постыдно хулили и травили.
Я старался запомнить и, едва выйдя за двери, повторял:Для них соткала я широкий покров...Затверженные отрывки "Реквиема" я в тот же день прочитал Рае. И она тоже запомнила.
Из бедных, у них же подслушанных слов,
Потом, нарушив обещание, все, что вспомнилось, записали - каждый своей "тайнописью".
Р. Мы с Лидией Корнеевной Чуковской сидели в садике нашего двора на улице Горького. Я стала вспоминать "Реквием". Лидия Корнеевна оглянулась по сторонам и сурово прервала:
- Мы - нас, кажется, десять - молчим об этом уже больше двадцати лет.
Мне почудился в ее голосе даже некий гнев "посвященного" на вторжение чужака в сокровенное святилище. Но через несколько минут она смягчилась и вполголоса прочитала целиком Эпилог.
Потом я несколько раз слышала чтение самой Ахматовой. Однако "Реквием" и сегодня звучит во мне голосом Лидии Корнеевны.
Она же 20 мая 62-го года привела меня к Ахматовой по делу.
В журнале "Октябрь" пасквилянт напал на статью литературоведа Эммы Герштейн "Вокруг гибели Пушкина". Анна Андреевна дружила с Эммой Герштейн и высоко ценила ее работы. Она пригласила меня как секретаря секции критики - Союз писателей должен вступиться за грубо, незаслуженно оскорбленную исследовательницу.
Я внимательно выслушала все, что сказала Ахматова, записала, обещала сделать все, что в моих силах. Глаза поднять боялась.
- Невежество дремучее этот "Октябрь", этот пасквилянт. Надо протестовать. Но плохо, что Бонди в чем-то несогласен с Эммой. И не промолчит. Всегда-то мы меж собой не согласны.
Лидия Корнеевна рассказала, что мой муж недавно побывал у Ахматовой, влюбился, а я пришла посмотреть на соперницу.
Она, без тени улыбки, величаво:
- Понимаю, мы, женщины, всегда так поступаем. Немного погодя:
- В тысяча девятьсот тринадцатом вернулся Николай Степанович из Африки, - это она о Гумилеве, - приехал в Царское, а меня нет, я ночевала у знакомых. Я рассказала об этом отцу: "Папа, ведь я за все шесть месяцев только один раз ночевала не дома". А он мне: "Так вы, женщины, всегда попадаетесь". Спрашивает:
- Вы читали в "Новом мире" о приемной МГБ? Это из романа Бондарева "Тишина".
И вспоминает:
- Я ходила туда десять лет. Переступаешь через порог, а чин тебе: "Ваш паспорт". Это чтобы к ним поменьше ходили. Советские граждане знают, что нельзя расставаться с паспортами... B Ленинграде я бывала и трехсотою.
А когда сына арестовали в сорок девятом году, я в Лефортове несколько раз оказывалась совсем одна. Было очень страшно. Пожалуй, страшнее, чем в очередях...
Как вы думаете, Лидия Корнеевна, не откажется ли Твардовский печатать отрывок из "Поэмы без героя" из-за того, что вокруг будут бродить и другие отрывки, крамольные? И он ждет предисловия Корнея Ивановича...
В ответ на гневные возгласы Лидии Корнеевны - неужели нельзя печатать "Поэму" без предисловия? - Ахматова говорит, что ей и самой интересно, чтобы Корней Иванович запечатлел свое отношение к поэме, которую он знает двадцать лет.
Показывает машинописные листы, предназначенные для журнала. Лидия Корнеевна находит опечатку. Обе громко возмущаются. Они гневаются так, как едва ли способны литераторы других поколений: святыня осквернена, не та буква.
Анна Андреевна говорит, что ей до зарезу нужен человек, который бы совсем не знал "Поэмы", чтобы он прочитал свежими глазами. Но она такого не нашла ни в Москве, ни в Ленинграде.
Стихи в этот день она не читала. Сказала: - Меня вычеркнули из программы.
Я не сразу поняла.
- Да ведь меня, грешную, поносили во всех школах и институтах от Либавы до Владивостока шестнадцать лет. Сын Нины Антоновны*, хозяйки этого дома, недавно напился, поцеловал мне руку и говорит: "Какое счастье, что вас больше не будут прорабатывать в школах".
* Н. Ольшевская, жена В. Ардова, подруга Ахматовой. 271
В тот же вечер я все это записала в дневник.
Несколько месяцев спустя я слышала от Ахматовой, чем отличается поэзия от музыки и живописи: немногим дано сочинять или воспроизводить музыку, немногие способны творить красками на холсте; к обыденной жизни эти занятия не имеют отношения. А поэзия создается из слов, которыми все люди пользуются ежедневно, из слов, доступных всем, - "пойдем пить чай".
И первый, и последующие наши разговоры были обыденны: что опубликовано, что запрещено, кому нужна помощь, кто как себя вел, нравится или не нравится чей-то роман, стихи.
Но за этим проступало иное. И чем больше времени проходило, тем сильнее ощущалось то иное измерение, мне недоступное, не поддающееся ни записи, ни рассказу.
Не только ее поэзия, но и она сама.
Мы стали встречаться. Изредка. Она дарила нам свои книги. Подарила и рукописный экземпляр "Поэмы без героя". Иногда звонила.
Л. Летом 1962 года к нам на дачу в Жуковку приехал Александр Солженицын. Как обычно, прежде всего сказал, сколько часов и минут может пробыть, начал задавать заранее приготовленные вопросы - и спросил об Ахматовой. Узнав, что у нас есть рукопись "Поэмы без героя", сразу же стал читать.
Мы все ушли на реку купаться, он остался, переписал всю "Поэму" микроскопическим почерком, уместив по две колонки на странице блокнотика.
"Один день Ивана Денисовича" готовился к печати. Анна Андреевна прочитала рукопись. Всем друзьям и знакомым она повторяла: "Это должны прочесть двести миллионов человек".
Встретился он с Ахматовой осенью того же года. Анна Андреевна рассказывала:
- Вошел викинг. И что вовсе неожиданно, и молод, и хорош собой. Поразительные глаза. Я ему говорю: "Я хочу, чтобы вашу повесть прочитали двести миллионов человек". Кажется, он с этим согласился. Я ему сказала: "Вы выдержали такие испытания, но на вас обрушится слава. Это тоже очень трудно. Готовы ли вы к этому?" Он отвечал, что готов. Дай Бог, чтобы так...
Вскоре после встречи с Ахматовой он пришел к нам, спросил:
- Кого ты считаешь самым крупным из современных русских поэтов?
Я ответил, что особенно мне дороги Ахматова, Цветаева, Пастернак, из других поколений - Твардовский, Самойлов... Одного-единственного выделить не могу.
- А мне только Ахматова. Она одна - великая. У Пастернака есть хорошие стихи; из последних, евангельских... А вообще он - искусственный. Что ты думаешь о Мандельштаме? Его некоторые очень хвалят. Не потому ли, что он погиб в лагере?
- Нет, не потому. Он - великий поэт.
- А по-моему, Мандельштам не русская поэзия, а скорее - переводная, иностранная...
- Ахматова считает Мандельштама величайшим поэтом своего поколения.
- Не знаю, не знаю. Я убежден, что она самая великая...
Солженицын передал Ахматовой пачку своих стихов: автобиографическую поэму, описание путешествия вдвоем с другом на лодке вниз по Волге, как они встретили баржу с заключенными, а на ночном привале были разбужены отрядом лагерной охраны, преследовавшей беглецов. Много стихов - любовь, разлука, тоска по свободе. Грамотные, гладкие, по стилю и лексике ближе всего Надсону или Апухтину. (Когда-то на шарашке они мне нравились.)
Ахматова рассказала:
- Возможно, я субъективна. Но для меня это не поэзия. Не хотелось его огорчать, и я только сказала: "По-моему, ваша сила в прозе. Вы пишете замечательную прозу. Не надо отвлекаться". Он, разумеется, понял, и, кажется, обиделся.
Об этой второй и последней их встрече нам она больше ничего не говорила. Но от него мы узнали, что она прочитала ему "Реквием".
- Я все выслушал. Очень внимательно. Некоторые стихи просил прочесть еще раз. Стихи, конечно, хорошие. Красивые. Звучные. Но ведь страдал народ, десятки миллионов, а тут - стихи об одном частном случае, об одной матери и сыне... Я ей сказал, что долг русского поэта - писать о страданиях России, возвыситься над личным горем и поведать о горе народном... Она задумалась. Может быть, это ей и не понравилось - привыкла к лести, к восторгам. Но она - великий поэт. И тема величайшая. Это обязывает.
Я пытался с ним спорить, злился. Сказал, что его суждения точь-в-точь совпадают с любой идеологической критикой, осуждающей "мелкотемье"...
Он тоже злился. И раньше не любил, когда ему перечили. А тогда уж вовсе не хотел слушать несогласных. Больше мы к этой теме не возвращались.
С Анной Андреевной он больше не встречался, и мы с ней о нем уже не говорили.
* * *
Надя Мальцева девочкой писала по-взрослому печальные стихи. К нам ее привел Григорий Поженян. Он зычно восхищался открытием "новой, шестнадцатилетней, Ахматовой".
Толстушка в очках увлеченно играла с двенадцатилетней сестрой и со всеми переделкинскими собаками и менее всего напоминала Ахматову. Но стихи нам понравились, поразили неожиданной зрелостью. Надя стала бывать у нас. Я рассказала о ней Анне Андреевне, попросила разрешения представить.
- Приводите завтра вечером.
В столовой у Ардовых шел общий разговор. Надя молчала, нахохлившись, смотрела только на Анну Андреевну, а та говорила мало, иногда замолкая на несколько минут и словно бы не видя никого вокруг. Но внезапно, после такой паузы, спросила Надю:
- Может быть, вы почитаете стихи? Хотите здесь читать или только мне?
- Только вам.
И Анна Андреевна увела ее в свою маленькую комнату. Из-за двери доносилась несколько монотонная скороговорка Нади. Она читала долго.
Потом послышался голос Анны Андреевны. Она читала стихи. И тоже лишь для одной слушательницы. И тоже долго. Настолько, что я ушел, не дождавшись конца, - было уже очень поздно.
Анна Андреевна потом говорила:
- Очень способная девочка. Много от литературы. Много книжных, не своих стихов. Но есть и свое, живое. Она может стать поэтом. Но может и не стать. И тогда это несчастье.
Надя рассказывала:
- Ну я ей читала. Всю тетрадку почти прочла. Прочту стихотворение и спрашиваю: "Еще?" Она кивает: "Еще". А говорила мало. Спрашивала, кого люблю? Знаю ли Блока, Пастернака, Мандельштама? Сказала, что надо читать побольше хороших стихов. Нет, не хвалила, но и не ругала. Но говорила о моих стихах так, что мне теперь хочется писать. А потом сама спросила: "Хотите, я вам почитаю?" Я боялась, что устанет. Она за полночь читала. И ведь мне одной. И сказала, чтоб я еще приходила. Ну, это из вежливости.
Второй раз Надя не пошла. Говорила, что стесняется, робеет. А много лет спустя призналась - не пошла, потому что боялась попасть под влияние, стать "послушницей" - до потери собственного голоса.
Л. подарил Ахматовой свою книгу о "Фаусте" с такой надписью: "Анне всея Руси от одного из миллионов почитающих и любящих верноподданных".
В мае 1963 года мы были в Ленинграде и на "авось" пошли к Ахматовой. Она была в просторном кимоно, расшитом золотом по черному. По-молодому захлопала в ладоши.
- А я с утра чувствовала, что сегодня будет радость. Эта встреча и смутила, и осчастливила. Разговор сразу пошел непринужденный. Она расспрашивала о московских новостях. Ее интересовало все - приятное, и неприятное: как вели себя Эренбург и Вознесенский, почему начальство набросилось на Евтушенко, что представляют собой работы Эрнста Неизвестного, кто и как ругал Л. за "абстрактный гуманизм"?
Потом вспоминала о своем:
- Все знают про сорок шестой год. А ведь это было во второй раз. Обо мне уже в двадцать пятом году было постановление. И потом долго ничего не печатали. В эмиграции пишут, что я "молчала". Замолчишь, когда за горло держат. Постановление сорок шестого года я увидела в газете на стене. Днем вышла, иду по улице, вижу - газета и там что-то про меня. Ну, думаю, ругают, конечно. Но всего не успела прочесть. Потом мне не верили: "Неужели вы даже не прочли?.." Но я в тот день стала замечать - знакомые смотрят на меня, как на тяжело больную. Одни осторожно заговаривают, другие обходят. Я не сразу сообразила, что произошло. А на следующий день примчалась из Москвы Нина Антоновна.
Показала недавно полученный первый том сочинений Гумилева, изданный в США.
- Тут предисловие господина Струве.
В предисловии строки из "Ямбов", посвященные разрыву с молодой женой, комментируются так: "Об этой личной драме Гумилева еще не пришло время говорить иначе, как словами его собственных стихов: мы не знаем всех ее перипетий, и еще жива А. А. Ахматова, не сказавшая о ней в печати ничего".
И гневно:
- Видите ли, этому господину жаль, что я еще не умерла.
Мы пытались возражать, - это просто неуклюжий оборот.
- Нет, это именно так. Ему это просто мешает. "Ахматова еще жива!" И он не может всего сказать. Написать ему, что ли? "Простите, пожалуйста, что я так долго не умираю"? И посмотрите, как гадко он пишет о Леве: "Позднее, при обстоятельствах, до сих пор до конца не выясненных, он был арестован и сослан". Невыясненные обстоятельства! Что ж они там предполагают, что он банк ограбил? У кого из миллионов арестованных тогда обстоятельства были ясными... Не понимают. И не хотят понять. Ничего они не знают. Да, да, они предпочли бы, чтобы мы все умерли, чтобы нас всех арестовали. Им мало двух раз. Посмотрите, вот тут же: "Но в 1961 году за границу дошли слухи (быть может, и неверные) о новом аресте Л. Гумилева". И Струве не один: они все там бог знает что пишут - Маковский, Одоевцева, оба Жоржика...
Заметив недоумевающие взгляды:
- Были такие два мальчика при Николае Степановиче - Георгий Иванов и Георгий Адамович. И вот теперь сочиняют невесть что. Одоевцева уверяет, что Гумилев мне изменял. Да я ему еще раньше изменяла!
Для нее оставались злободневными соперничества, измены, споры, которые волновали ее и ее друзей полвека тому назад.
В тот день она читала стихи из цикла "Шиповник цветет", из "Реквиема".
Ее комната в дальнем конце коридора была узкая, длинная, небрежно обставленная старой случайной мебелью. Диван, круглый стол, секретер, ширма, туалет, этажерка. Книги и неизменный портфельчик с рукописями лежали на круглом столе.
Потом повела нас в столовую - показать картину Шагала. Здесь она была так же, как во всех московских пристанищах, "не у себя дома", а словно проездом, в гостях... Вышла на кухню, вернулась огорченная.
- А у нас опять ничего нет, гостей не ждали, угостить вас нечем.
Мы рассказали, как Панова благоговейно говорила о ней и читала ее стихи. Она слушала отстраненно, мы не сразу поняли, что она не хочет говорить о Пановой. Едва услышав, что та собирается писать книгу о Магомете, взметнулась, глаза потемнели от гнева, голос задрожал:
- Магомета ненавижу. Половину человечества посадил в тюрьму. Мои прабабки, монгольские царевны, диких жеребцов объезжали, мужей нагайками учили. А пришел ислам, их заперли в гаремы, под паранджу, под чадру.
Мы услышали лекцию по истории ислама, о первых халифатах, настоящую лекцию серьезного, разносторонне образованного историка. О Магомете она говорила с такой ненавистью, как говорят лишь о личном враге, еще живом.
Р. В сентябре 1963 года американский поэт Роберт Фрост впервые приехал в Россию. В детстве он мечтал о таинственной стране белых медведей. Юношей и зрелым поэтом он жил в магнитном поле русской литературы.
...Но как же нам писатьВ день торжественного введения Кеннеди в должность президента Фрост был почетным гостем праздника, и впервые в истории США этот государственный акт был ознаменован чтением стихов. В Москву он приехал как посланец президента Кеннеди.
на русский лад романы об Америке,
если наша жизнь так безмятежна?..
...От наших писателей требуют, ждут,
чтобы все они Достоевскими стали,
тогда как их беда - избыток успехов и благ...
У нас его принимали необычайно почетно. Когда он заболел в Пицунде, Хрущев навещал его в номере гостиницы, сидел у постели, развлекал анекдотами.
Приехав в Ленинград, Фрост попросил, чтобы его познакомили с Анной Ахматовой. Мы несколько раз слышали, как она рассказывала об их встрече.
- Не у меня же в будке его принимать. Потемкинскую деревню заменила дача академика Алексеева. Не знаю уж, где достали такую скатерть, хрусталь. Меня причесали парадно, нарядили, все мои старались. Потом приехал за мной красавец Рив, молодой американский славист. Привез меня заблаговременно. Там уже все волнуются, суетятся. И я жду, какое это диво прибудет - национальный поэт. И вот приходит старичок. Американский дедушка, но уже такой, знаете, когда дедушка постепенно становится бабушкой. Краснолицый, седенький, бодренький. Сидим мы с ним рядом в плетеных креслах, всякую снедь нам подкладывают, вина подливают. Разговариваем не спеша. А я всю думаю: "Вот ты, милый мой, национальный поэт, каждый год твои книги издают, и уж, конечно, нет стихов, написанных "в стол", во всех газетах и журналах тебя славят, в школах учат, президент как почетного гостя принимает. А на меня каких только собак не вешали! В какую грязь не втаптывали! Все было - и нищета, и тюремные очереди, и страх, и стихи, которые только наизусть, и сожженные стихи. И унижение, и горе. И ничего ты этого не знаешь и понять не мог бы, если бы рассказать... Но вот сидим мы рядом, два старичка, в плетеных креслах. И словно бы никакой разницы. И конец нам предстоит один. А может быть, и впрямь разница не так уж велика?
Осенью 1963 года я послала Ахматовой письмо из больницы:
Дорогая Анна Андреевна!
Никогда я не решилась бы написать Вам, если бы не чрезвычайное обстоятельство. Я болела все лето и осень, и это закончилось тяжелой операцией, после которой мне как-то стало все все равно. Не читала, не думала, лежала на больничной кровати, не смотрела на своих родных и близких. И тогда Лев Зиновьевич принес мне томик Ваших стихов - попробуй читать. И Ваши стихи стали для меня мостиком к этому миру. Я читала давно знакомые и будто совсем незнакомые строки и возвращалась. Потому мне и захотелось очень написать Вам с глубокой личной благодарностью теперь, когда стало легче (я все еще в больнице), пытаюсь разобраться, что же за чудо произошло в ту ночь, когда я опять, несмотря на все уколы, не спала и пробовала читать.
Меня поразило мужество поэта. Я часто думала о Вас, о Вашей судьбе, как, о примере необыкновенного, редкого мужества. Но только теперь я поняла главное - Вы знаете, что человек смертен, Вы знаете самую сердцевину трагедии человеческой ("...но кто нас защитит от ужаса, который...") Знаете и в отвлеченно-философском, и в самом конкретном земном смысле ("...даже ветхие скворешни"). Знаете и учите людей жить, не закрывая на это глаза (как я прожила), а - зная. Мне раньше Ваши стихи казались холодно-прекрасными, мраморно-прекрасными. И только теперь, может быть, причастившись страданий сама, я ощутила раскаленную лаву, которой овладел художник.
В поэзии Цветаевой страдание льется через край, захватывает читателя боль, содрогание... А здесь страдание преодоленное, снятое. И в этом огромная победа художника, победа нравственная и победа эстетическая. Мне эта преодоленность, скромность страдания кажется чертой очень русской...
Еще раз спасибо Вам, низко кланяюсь Вам за то, что Вы есть, за все, за то, что Вы писали и пишете сейчас прекрасно молодые стихи. Перед моими глазами - Ваш портрет, не тот, что в книжке, а мой любимый, теперешний, в белом цвету, где изображена величественная, необыкновенно счастливая женщина - великий поэт - олимпиец на вершине славы, увенчанный всеми мыслимыми отечественными и иностранными лаврами, собраниями сочинений и пр*. Ведь те лавры главные - в читательских сердцах, они у Вас действительность, а не иллюзия. Спасибо Вам. С надеждой увидеть Вас, если позволено будет - мы приедем на ноябрь в Комарове.
Нежно Вас обнимаю,
* В моем письме только предчувствие. Тогда, в 63-м году, не было еще ни "Бега времени", ни поездок за границу, ни премий. Все это начало приходить года два спустя, признание и в России, и далеко за рубежами.
В 1983 году мы узнали, что в Ленинграде существует музей Анны Ахматовой.
В ответ получила телеграмму:
"Ваше письмо принесло утешение и помощь в тяжелый час. Благодарю Вас. Ваша Ахматова".
В этом письме - только правда, но не вся правда. Я не писала и никогда не говорила ей, как поздно я пришла к ней и почему поздно.
Она была убеждена, что возможен лишь один выбор между опасной правдой и спасающей ложью, и считала, что именно эта коллизия определяла существование всех советских людей.
* * *
30 мая 1964 года былая вера моей молодости и новообретенная мною правда Ахматовой столкнулись в один день - и наглядно, как на школьном уроке.
В двенадцать часов в музее Революции собрание: 70-летие Артемия Халатова. В шесть часов в музее Маяковского - вечер, посвященный 75-летию Анны Ахматовой.
Ни о том, ни о другом событии газеты не писали. Для официальной истории они всего лишь заметки на полях.
Смотрю на знамена музея. А слышу не торжественный шелест, нет, отчетливо слышу металлический звук - так дребезжат цветы на искусственных венках. Когда похороны кончаются, венки прислоняют к могиле, все расходятся по домам. Живые цветы вянут, а эти дребезжат.
Над столом президиума - фотопортрет: ассирийская курчавая борода и шевелюра Халатова. Красив, молод, взгляд устремлен вдаль, в будущее. Когда его убили в 37-м, ему было 43 года. До революции - "профессиональный революционер", потом - профессиональный начальник. Начальник столовых, начальник вагонов, начальник книг.
Мой отец работал с Халатовым с первых лет революции; куда бы того ни переводили (тогда говорили: "бросали"), он брал с собой несколько сотрудников, в том числе и отца. С матерью, с сестрой Халатова мои родители сохранили дружбу и после его гибели. Потому я и оказалась в музее Революции 30 мая 64-го года.
Сквозь пустые, бесцветные слова академика Островитянова изредка прорывается живое: "Говорят, что и на Колыме Артемий Багратович заведовал малым Нарпитом* - делил арестантские пайки".
Большинство присутствующих - отсидевшие или их родственники. Рядом со мной - Ханка Ганецкая**, мы с ней учились в ИФЛИ. Третьекурсницей ее арестовали. Она шепчет: "Плохо сделано собрание, вот я сделала в честь папы - все плакали..."
* Народное питание - Управление столовых, ресторанов, кафе.
** Умерла в сентябре 1977 года.
В речах - ни следа преступлений. Просто чествуют человека, умершего в своей постели. О нем, как всегда о мертвых, только хорошее.
Когда я читала книгу Кестлера "Мрак в полдень"*, герой Рубашов виделся мне похожим на Халатова. Властный, сильный, умный. Но чего-то важного, вероятно, самого важного, у Рубашова не оказалось. Вероятно, не было и у Халатова. Не должно было быть у человека того рода, к которому оба они принадлежали. К которому стремилась принадлежать и я.
* Опубликовано в русском переводе под названием "Слепящая тьма".
Люди этого рода должны были непременно освободиться от себя, от своего мнения, от своей совести. Не освободившись, нельзя было принадлежать к этой когорте. Кто не умел освободиться до конца, как я, постоянно ощущал тоскливую неполноценность. А того, кто освобождался окончательно, можно было сделать кем угодно: и чудовищем, палачом, и безропотной жертвой. Кончилось для многих, как для Рубашова, для Халатова, пулей в затылок.
В музее Революции собрались старые люди. На фотографиях, выставленных в фойе, они моложе и реальнее, чем теперь. Я больше смотрю в зал, чем на трибуну, больше слушаю, что говорят вокруг меня.
Халатов еще верил в то, что под красными знаменами "с "Интернационалом" воспрянет род людской".
Во что верят люди, собравшиеся здесь жарким весенним днем не то чтобы тайно, но и не совсем открыто? Об этом собрании знал только узкий круг друзей, знакомых. Они сильно отличаются от тех, кто правит сегодня. Научила ли жизнь и гибель Халатова кого-нибудь чему-нибудь?
Можно ли восстановить связь времен? Или она разорвана?
О вечере Ахматовой тоже не было объявлений ни в печати, ни по радио. Программа утверждена, разослали пригласительные билеты по спискам.
Музей Маяковского. Маленький зал заполнен. Меньше людей, чем было утром. И совсем другие люди. Я попадаю из одной языковой среды в другую, из одной действительности в другую.
Начинает Виктор Максимович Жирмунский:
"В конце марта мы отмечали пятидесятилетие "Четок", книги, установившей славу Ахматовой в русской поэзии... Пятьдесят лет - время немалое, такой промежуток времени отделяет смерть Пушкина от возникновения русского модернизма. Однако, как вы видите и показываете своим присутствием, стихи не устарели. Мы собрались здесь, чтобы слушать стихи большого русского поэта, стихи уже классические, но еще современные, переведенные теперь на все языки мира".
Пятьдесят лет назад он рецензировал этот первый сборник Ахматовой. Полвека. Эта связь времен тоже испытывала потрясения, но не разорвалась. Укрылась в глубинах. А сейчас восстанавливается.
Что значил Халатов для Жирмунского? Он хотел, чтобы такие, как Халатов, не вторгались в его работу, в его жизнь, не мешали ему заниматься своим делом. А они обычно мешали.
В апреле 1930 года из журнала "Печать и революция", из готового тиража, по приказу Халатова был вырезан портрет Маяковского и приветствие редакции в связи с выставкой "Двадцать лет работы". Это был один из последних ударов, нанесенных поэту.
Госиздат под начальством Халатова не опубликовал ни одного сборника Ахматовой.
Жирмунский говорит о стихах, которые он знал и любил юношей: "Ахматова создала много замечательных стихов. Далеко не все появились в печати. Но ответственность не на поэте, а на известных обстоятельствах эпохи культа личности..."
Я была тогда с моим народом
Тем, где мой народ, к несчастью, был...
"Известные обстоятельства эпохи культа личности" оказались враждебны и Ахматовой, и Халатову. Есть ли еще хоть что-либо общее в их судьбе?
Жирмунский говорит о гражданственности поэзии Ахматовой, о ее воспитательном значении. В музее Революции тоже говорили о воспитании, о том, что Халатов - пример для молодых.
О молодых людях, для которых примером был бы революционер, большевик, я читаю в иностранных журналах и книгах о новых левых. Их герои - Ленин, Троцкий, Роза Люксембург, Фидель, Хо Ши Мин, Че Гевара, Мао...
Юноши и девушки вокруг меня в большинстве своем пытаются следовать иным образцам.
Поэт Арсений Тарковский сказал:
"Музе Ахматовой свойствен дар гармонии, редкий даже в русской поэзии, в наибольшей степени присущий Баратынскому и Пушкину. Ее стихи завершены, это всегда окончательный вариант. Ее речь не переходит ни в крик, ни в песню, слово живет взаимосвечением целого... Мир Ахматовой учит душевной стойкости, честности мышления, умению сгармонировать себя и мир, учит умению быть тем человеком, которым стремишься стать".
"...Сгармонировать себя и мир" - не к этому ли стремились люди, внуки и дети которых собрались в музее Революции? Хотя эта фраза прозвучала бы для них как чужая.
"Язык Ахматовой больше связан с языком русской прозы. Ее произведений не коснулся великий соблазн разрушения формы, то, что характерно для Пикассо, Эйзенштейна, Чаплина".
Имени Маяковского он не произносит. Но как же не вспомнить о нем, говоря о поэзии XX века? Особенно в его доме.
Лев Озеров грозно спрашивал: "Долго ли еще будет тетрадкой эта всеми ожидаемая книга?" В 1965 году вышел однотомник - "Бег времени", но "Реквием" оставался тетрадкой *.
* "Реквием" впервые опубликован в СССР в марте 1987 года.
Владимир Корнилов читал стихи:Век дороги не прокладывал,Халатов был убежден, что он прокладывает дороги в новый век. Его дороги заросли, оказались тупиками. А дорога Ахматовой - открыта.
Не проглядывалась мгла.
Блока не было. Ахматова
На земле тогда жила.
Неужели эти миры разделены так безнадежно? Неужели различие их трагедий исключает всякую общность? Ведь в наших душах, в наших судьбах они как-то совместились...
* * *
Л. В 1964 году Анне Ахматовой была присуждена поэтическая премия Этна Таормина. И она полвека спустя после довоенных путешествий поехала на Запад.
Задолго до того, как стало известно об итальянской премии, она прочитала нам стихи:
Те, кого и не ждали в Италии,Провожало ее несколько московских друзей, я привез на вокзал вместе с цветами только что вышедшую книгу Р. "Потомки Гекльберри Финна" с надписью: "Дорогой Анне Андреевне в знаменательный день, когда она покидает Зазеркалье".
Шлют оттуда знакомым привет,
Я осталась в своем зазеркальи,
Где ни света, ни воздуха нет...
В вагоне она сидела напряженно-серьезная, с необычной высокой прической. Мне показалось: напудренная, как маркиза.
Поблагодарила за книгу и сказала как-то спокойно подчеркнуто:
- Ну, что ж, еду представлять коммунистическую Россию.
- Анна Андреевна, помилуйте, вы представляете великую державу - Русскую Поэзию.
- Нет уж, мои дорогие, я-то знаю, зачем меня посылают.
Ленинград. Анна Андреевна рассказывает об Италии:
- Нет, никакого триумфа не было, - говорит весело, насмешливо. - Там совсем по-другому относятся к поэзии, чем у нас. Я раньше все осуждала "эстрадников" - Евтушенко, Вознесенского. Но оказывается, это не так уж плохо, когда тысячи людей приходят, чтобы слушать стихи. А в Италии одинокие поэты сидят по разным городам. Их не читают. И они сами почти не знают друг друга.
Свидание с Италией полвека спустя, когда она уж и надеяться перестала. Впервые такое праздничное, международное чествование. Хотя она и говорила "никакого триумфа", но в действительности это было торжество. Десятки поэтов из разных стран Европы собрались ради нее, подтверждая всемирное признание ее творчества.
И там, в свободном мире, она увидела одиноких поэтов. Она-то, казалось, сосредоточенная на своей, на нашей трагедии, могла и не заметить этого. Но она восприняла также их заботы.
Здание старинного монастыря, где происходило чествование, на высоком холме. Крутая лестница.
- Ступени высоченные, каждый шаг кажется последним. Ну, думаю, сейчас вызовут "неотложку" и потащат меня отсюда на носилках. Будут, что называется, похороны по четвертому разряду. Покойник сам правит катафалком. Нет, думаю, надо взойти. И взошла.
Показывает снимки: на трибуне с ней Вигорелли, Унгаретти, министр. За ними - античные бюсты.
- Это, кажется, Марк Аврелий... Смотрите, как презрительно косится: это еще кто такая? Поэтесса? Сапфо знаю; Ахматова - слышу впервые...
- Дали мне какой-то конверт. Положила на стол. А министр открыл мою сумочку и всунул его туда. Оказывается, чек на миллион лир...
- Устала смертельно, вернулась к себе в номер. Только бы добраться до постели. Прибежал Сурков. "Все наши собрались. Очень просим. Хоть на несколько минут". Потащилась в другой номер, кажется, к Твардовскому. Там и Симонов был и еще кто-то. А на столе - она, милая. П-ал-литра. И селедка. Ели по-студенчески, закуски чуть ли не на газете...
Рассказывает весело, с удовольствием.
Немецкий писатель Ганс Вернер Рихтер написал очерк для радио:
"...Знаете ли вы, кто такая Анна Ахматова? Нет, вы не знаете этого, а если скажете, что знаете, то... либо вы образованнее меня, либо хотите казаться образованнее... Мне позвонили из Рима как раз перед полуночью... Я должен немедленно прибыть в Таормину, это очень важно, сказал тихий женский голос... официальное приглашение... господи, да что мне делать в Таормине? И тогда прозвучали слова: "Анна Ахматова". Что ни говори, эти слова звучали неплохо. Пять "а" подряд, а я люблю "а".
Рихтер шутливо описывает свой полет в Сицилию, ожидание и подготовку торжества.
"Анна Ахматова здесь, - услышал я. - Это было в пятницу, в двенадцать часов дня, и солнце сияло в зените. Здесь, уважаемые слушатели, я должен сделать цезуру, необходима пауза, чтобы достойно оценить это счастье. Потому что из-за этого голоса, из-за этого облика могла бы произойти первая мировая война, если бы для нее не нашлись другие причины.
Да, здесь восседала сама Россия посреди сицилийско-доминиканского монастыря, на белом лакированном садовом стуле, на фоне мощных колонн монастырской галереи... Великая княгиня поэзии давала аудиенцию в своем дворце. Перед ней стояли поэты из всех стран Европы - с Запада и с Востока - малые, мельчайшие и великие, молодые и старые, консерваторы, либералы, коммунисты, социалисты; они стояли, построившись в длинную очередь, которая тянулась вдоль галереи, и подходили, чтобы поцеловать руку Анны Ахматовой... Каждый подходил, кланялся, встречал милостивый кивок, и многие - я видел - отходили, ярко раскрасневшись. Каждый совершал эту церемонию в манере своей страны: итальянцы - обаятельно, испанцы - величественно, болгары - набожно, англичане - спокойно, и только русские знали тот стиль, который достоин Анны Ахматовой. Они стояли пред своей монархиней, они преклоняли колена и целовали землю. Нет, они этого не делали, но выглядело именно так, или так могло бы быть. Целуя руку Анны Ахматовой, они словно целовали землю России, традицию своей истории и величие своей литературы. Среди них только один был насмешником - я не хочу называть его имени, чтобы уберечь его от немилости Анны Ахматовой. После того как и я совершил обряд целования руки в стиле моей страны, он сказал: "А знаете ли, в тысяча девятьсот пятом году, в пору первой русской революции, она была очень красива?"...
Она читала по-русски голосом, который напоминал о далекой грозе, причем нельзя было понять, удаляется ли эта гроза или только еще приближается. Первое стихотворение было коротким, очень коротким; едва она окончила, поднялась буря оваций, хотя, не считая нескольких русских, никто не понимал ее языка. Она прочла второе стихотворение, которое было длиннее на несколько строк, и закрыла книгу.
...После этого присутствовавших поэтов попросили прочесть стихи, посвященные Анне Ахматовой. Один поэт за другим подходил к ее стулу и читал стихотворение для нее и для публики, и каждый раз она поднимала голову, смотрела влево, вверх или назад - туда, где стоял читавший поэт, и благодарила его любезным кивком каждый раз, будь то английские, исландские, ирландские, болгарские или румынские стихи. Все происходившее напоминало - пусть мне простят это сравнение - новогодний прием при дворе монарха. Монархиня поэзии принимала поклонение дипломатического корпуса мировой литературы, причем выступавшим здесь дипломатам не требовалось предъявлять верительные грамоты. Потом кто-то сказал, что Анна Ахматова устала, и вот она уже уходила... Видя, как она шествует, я внезапно понял, почему в России время от времени могли править именно царицы".
В Риме пришла к ней в гостиницу журналистка.
- Какая-то Аделька из "Иль Мондо". И написала потом чушь и гадость. Она, видите ли, надеялась, что я останусь. Изберу свободный мир. И наврала же она! И про внешность. И будто я говорю только о себе. И все время: "Ах, Гумилев! Ах, Пастернак! Ах, Мандельштам!" Даже об этом халате написала: "времен русско-японской войны, все пережил"...
- А мне Рим не понравился. Он все время за вами гонится...
Она рассказывала, как ночью ехала в поезде и кто-то сказал, что недалеко Венеция. Стояла у окна. Хмурый, туманный рассвет. Горбатый, покосившийся мост. Фонари. Цепочка фонарей словно проводы на кладбище. Подумала: о такой Венеции еще никто не писал. Пройдет час - наступит утро, и тогда Венеция станет жемчужной, какую веками воспевали поэты.
Она говорила, и ее слова были тоже предутренние, предрассветные. Слова еще до рождения стиха. Будто на миг приоткрылось тайное святилище.
На столе письма, бандероли. Издатель Эйнауди телеграфировал: "Горд, что Италия достойно встретила вас". Приглашение из Англии. Пакет из Америки - там издали "Реквием" по-чешски.
- Никогда не думала, что над этими стихами кто-нибудь будет смеяться. А вот вы сейчас будете. Посмотрите, как они представляют нашу тюрьму.
На обложке рисунок. В окне - редкая, совсем не тюремная решетка, за ней - "сочинский" ландшафт. Светлая просторная камера.
- Ничего не понимают. И, должно быть, никогда не поймут...
Расспрашивает о переводчике Анатолии Гелескуле. Правда ли, что он собирается переводить Рильке?
- Дай Бог, теперь, может быть, наконец будет русский Рильке. Он и сам, конечно, пишет стихи. Вы их знаете?
Мы не знаем его стихов, кажется, он их никому не читает, не показывает. Она уверенно:
- Все будет, все придет. Он полубог, он все может. Передайте ему, что он самый первый класс...
Бродский прислал написанные в ссылке новые стихи.
- Я однажды призналась Бродскому в белой зависти. Читала его и думала: вот это ты должна была бы написать и вот это. Завидовала каждому слову, каждой рифме. Могла бы позавидовать и стихотворению "На смерть Элиота", но все же не так.
Мы рассказали ей о воспоминаниях Зинаиды Николаевны Пастернак, - мы оказались среди нескольких слушателей этих воспоминаний в Переделкине. История ее молодости, любви, семейной жизни. И неожиданно откровенные описания интимных отношений, подробные, будто ответы на вопросы у врача.
Мемуаристка старалась прежде всего доказать, что прообразом Лары, возлюбленной Юрия Живаго, была не Ольга Ивинская, а она - законная жена. И что Пастернак всегда оставался "настоящим советским человеком", "беспартийным большевиком". О Мандельштаме написано с нескрываемой неприязнью, как о назойливом попрошайке, который "подводил" Пастернака.
Анна Андреевна слушала раздраженно и сердилась не только на Зинаиду Николаевну, но и на Бориса Леонидовича.
- Обожествлял самых пошлых баб, особенно когда они мыли полы... И когда "Фауста" переводил, Гретхен получилась грубее, чем у Гете, такая же мещанка, как Зинаида Николаевна. Но теперь ее надо охранять. Если молодежь узнает, что она там пишет о Мандельштаме, то ее просто разорвут.
Упоминает о своей пьесе-трагедии. Мы не поняли, о той ли, которая была сожжена в Ташкенте, или о новой.
- Она шебуршится только в Комарове. А в других местах молчит.
"Шебуршится" - она восстанавливает сожженное или новый замысел?
В тот послеитальянский день она была оживленней, чем всегда.
Говорит о верстке "Бега времени":
- Они опять перепутали строки в чистых листах. У меня просто предынфарктное состояние.
- Анна Андреевна, что же будет?
- Я послала телеграмму. Но они не посчитаются со мной. Они-то выйдут из положения: вклеят портрет Насера. Вы смеетесь, а надо плакать.
Но и сама смеется.
* * *
Л. Август шестьдесят пятого года. Мы с Генрихом Бёллем в Ленинграде. Он тогда работал над сценарием телефильма "Достоевский и Петербург".
Владимир Григорьевич Адмони и Тамара Исаковна Сильман предлагают повезти его к Ахматовой в Комарово. С утра я спешу рассказать Бёллю про Ахматову. Он очень внимательно слушает, переспрашивает. Я пытаюсь объяснить особенности ее поэзии. Из этого возникает вовсе "посторонний" разговор о том, почему в современной русской поэзии преобладают рифмованные мелодические стихи, а в немецкой они почти исчезли.
Приезжаем в Комарово. За деревьями маленький домик - "будка". Через застекленную террасу-пенал идем в комнату.
Анна Андреевна в нарядной шали, держится чопорнее, чем обычно, - "принимает" иноземного гостя.
Нас много, едва умещаемся. Анна Андреевна говорит по-французски. Бёлль отвечает по-французски с трудом. Потом они переходят на английский, это ей нелегко. Тогда мы с Владимиром Григорьевичем становимся толмачами.
Оказывается, Бёлль читал ее стихи и по-немецки, и по-английски. Сказал, что ему немецкие переводы нравятся больше, чем английские. Немецкий язык по духу, по степени свободы ближе русскому, чем английский.
На обратном пути я упрекнул его: зачем он молча слушал мою "лекцию"? Он хитро улыбался: "Я услышал кое-что новое. А если бы я сказал, что знаю, ты перестал бы рассказывать, стал бы меня экзаменовать".
Кто-то говорит, что в этом году Нобелевская премия будет присуждена Ахматовой. Она царственно: "И хлопотно, и не нужно, и один швед сказал, что не дадут". Мы вопросительно глядим на Бёлля: "Кто знает, кто знает..."
Анне Андреевне нравится замысел фильма "Достоевский и Петербург". Нравится, что Генрих хочет возможно больше текстов Достоевского и образы Петербурга. Не как иллюстрации к ним, а самостоятельно, как фон. И его собственные короткие вставки будут не комментариями, а просто справками об улицах, о домах.
Она расспрашивала, что Бёлль уже видел, где побывал.
- И про Сенную площадь не забыли?
Бёлль рассказывает о внуке Достоевского - ленинградском инженере. Выйдя на пенсию, он стал неутомимым, дотошным исследователем и биографом деда. Нас он заставлял считать шаги от "дома Раскольникова" до "дома процентщицы", показывал дверь, за которой был спрятан топор. Посетовал, что несколько обнаруженных им квартир Мармеладовых не совпадают с описаниями, и доверительно сказал: "Вероятно, в романе квартира, так сказать, синтетическая..."
Бёлль ответил ему вполне серьезно:
- Вы, конечно, правы. Писатели иногда делают такие синтезы.
Анна Андреевна смеялась.
Прощаясь, Бёлль поцеловал ей руку. Такое мы увидели впервые. И совсем необычно для него торжественно сказал:
- Я очень рад, очень горжусь, что увидел главу русской литературы. Достойную главу великой литературы.
Анна Андреевна говорила потом:
- А он, пожалуй, лучший из иностранцев, которых я встречала. Они ведь почти все - дикари. А он удивительно милый человек.
Р. Ахматова попросила меня задержаться.
- Как наше дело?
Дело Иосифа Бродского. Я рассказала о новых ходатайствах, наших и зарубежных. В прокуратуре в последний раз сказали, что скоро освободят.
На обратном пути мы встречаем Даниила Гранина, и он успевает мне шепнуть: "Нас с Дудиным вызвал Демичев, он дал команду пересмотреть дело Бродского".
Л. Февраль 1966 года. Процесс Синявского-Даниэля. Постыдное судилище.
И президиум Союза писателей одобрил приговор - семь и пять лет лагерей.
В те дни Анна Андреевна вышла из больницы после инфаркта. Она несколько раз звонила нам, приглашала. А я не решался, трусил из-за радиорепортажа Рихтера о Таорминском чествовании, - общие знакомые рассказывали Анне Андреевне, что брошюру он прислал нам.
И она каждый раз говорила:
- Пожалуйста, не забудьте захватить с собой статью этого немца, говорят, она занятная.
Но как показать ей этот лихой репортаж, с шуточками по поводу ее возраста, внешности? Я ссылался на какие-то срочные дела, оттягивал, авось удастся прийти и без злополучной брошюры.
Анна Андреевна звонила снова. Уклоняться было уже невозможно. Она сказала, что приготовила нам свои новые книги - "Бег времени" и сборник переводов.
Двадцать седьмого февраля мы пришли на Ордынку. Она была такой же, как и раньше, величаво приветливой. Казалось, нет и следов болезни.
- Врачи меня называют медицинским чудом. Когда привезли в больницу, считали, что я умру немедленно. А я обманула медицину.
Но через некоторое время стало заметно: устает, бледнеет.
Расспрашивала о процессе Синявского-Даниэля. Тогда мы еще надеялись на кассацию, на помилование, на предстоящий съезд партии.
- Я только сейчас узнала, что академик Виноградов участвовал в этой подлости, был председателем экспертной комиссии. А ведь он настоящий ученый, мы пятьдесят лет знакомы, даже дружны. Он интересно писал о моих стихах. Но теперь нельзя подавать ему руки.
Спрашивала, кто из литераторов защищал арестованных.
- Это хорошо. Все-таки другие времена. Хорошо. Показала темно-серую толстую книгу.
- Вот, можете полюбоваться, как американцы издают Ахматову. Собрание сочинений, том первый. Возмутительно! В предисловии напутано и наврано. Всунули два чужих стихотворения неведомо чьих. Я ничего подобного написать не могла. Везде ошибки. Множество опечаток.
Мы пытаемся возражать.
- Хорошо все-таки, что книга есть. Напечатан "Реквием". Ошибки исправят во втором издании. А чужие стихи? Может быть, это стихи Журавлева, который украл два ваших? Вот американцы ему и "возместили" - око за око.
Смеется коротко и отмахивается.
- Нет, нет, возмутительная книга. Показывает старые снимки.
- Здесь я в том же платье, что на портрете Альтмана, и поза такая же.
...Снимок тоненькой гимнастки, лежит на животе, голова закинута, упирается в пятки. Сильные, красивые ноги.
- Вот кем я должна была бы стать - циркачкой.
...Снимок, полученный из ЦГАЛИ; там хранится книжечка из бересты - сборник стихов Ахматовой, записанных по памяти в женском лагере. Отчетливо врезанные в бересту строки:
Двадцать первое. Ночь. Понедельник.Заметив наши умоляющие взгляды, подарила снимок, на обороте дата и ее "А", пересеченное летучим росчерком.
Очертанья столицы во мгле.
Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле.
Переводил ей с листа Рихтера, разумеется, пропустив шутку о "красавице 1905 года", путаницу в разных мужьях.
Она слушала с явным удовольствием. Несколько раз смеялась.
- Да, да, именно так было. Ах, этот смешной долговязый ирландец, никто не понял, что он читал... Прелестно. Вот как надо писать репортажи. Хоть бы кто-нибудь из наших у него поучился. Может быть, послать Рихтеру мою книгу? Или лучше снимок - ведь он по-русски не читает.
Мы боялись, что утомили ее, несколько раз порывались уйти. Но она не отпускала. Прочла несколько стихотворений:Другие уводят любимых,Когда мы прощались, она сказала:
Я с завистью вслед не гляжу,
Одна на скамье подсудимых
Уж скоро полвека сижу.
Сменяются лица конвоя
В инфаркте шестой прокурор...
- Оставьте мне, пожалуйста, эту книжечку Рихтера. Хочу проглядеть.
Л. 28 февраля.
Утром звонок. В голосе - улыбка.
- Я все прочла и оценила ваше джентльменство. А теперь очень прошу - переведите для меня всё. Полностью, без купюр. Мы сегодня с Ниной Антоновной уезжаем в санаторий, но Виктор Ефимович и мальчики будут к нам ездить. Пожалуйста, пришлите перевод, как только закончите.
Переводил я старательно. Машинистка спешно перепечатывала. 5 марта в 10.15 я позвонил Ардову, он должен был ехать в санаторий. Договорились, что он по пути захватит перевод. Через час позвонил он:
- Анна Андреевна умерла. Примерно тогда же, когда мы с вами разговаривали.
Дневник
Значит, 27 февраля я в последний раз слышал ее голос. Растерянность. Горе. Звоню, звоню, звоню. Труднее всего сказать Лидии Корнеевне. Позвонил в Берлин Рихтеру. Это ведь словно завещание...
Позвонила Аня*. Рассказала, что накануне Анна Андреевна просила прислать ей Новый Завет - хотела сличать тексты Евангелия с текстами кумранских рукописей. Утром пятого марта проснулась очень веселая. Но завтракать не пошла, чувствовала слабость. Сестра сделала ей укол. Она шутила с ней. И умерла, улыбаясь.
* Дочь Ирины Пуниной, в те дни была с Анной Андреевной.
Седьмого марта утром панихида в церкви Николы в Кузнецах - заказала Мария Вениаминовна Юдина. Собралось человек сорок.
Молодой священник служил серьезно, сосредоточенно. Двое певчих, причетницы в черных платках. Когда пели "Со святыми упокой...", древние, печально утешающие слова, глаза намокли. Стояли с маленькими свечками. Хорист махнул нам - "Вечная память". Все пели. Вечером в доме у друзей поминки. Слушали голос Анны Андреевны. Грудной, очень низкий, усталый голос. Несколько стихотворений, сопровождает перестук дождя за окном. От этого все значительнее, величественнее и печальнее. И слышней, внятнее глубинная отстраненная мудрость стихов. "Я" звучит, как "Она"; и страстные признания - непосредственная действительность любви и тоска чувственных воспоминаний, пронизаны мыслью - трезвой, пронзительно ясной мыслью.
Шестое, седьмое, восьмое марта: непрерывные телефонные звонки, долгие переговоры. Союз писателей поручил Арсению Тарковскому, Льву Озерову и Виктору Ардову сопровождать гроб в Ленинград. Но что будет в Москве? Руководители Союза явно трусят, боятся, чтобы не было "демонстрации", хотят, чтобы все прошло возможно скорее. Снова и снова звонят друзья, знакомые и незнакомые, спрашивают: "Неужели правда, что не дадут проститься?" Когда-то Ахматова писала:Какой сумасшедший СуриковИ получилось так, что, не облеченный никакими полномочиями, я стал, не отходя от телефона, действовать от имени "комиссии Союза писателей по похоронам Ахматовой".
Мой последний опишет путь?
Давний и самый надежный способ - обращался не к большим начальникам, а к малым исполнителям. Звонил на аэродром, в отдел перевозки грузов, бархатным голосом поздравлял девушек с наступающим праздником, объяснял, какой великой женщиной была Анна Ахматова, вот такое горе, такая печаль накануне Женского дня. Без труда получил разрешение привезти гроб на два и даже на три часа позднее указанного срока, прямо к самолету. Всем, кто нам звонил, мы говорили, чтобы утром шли прямо к моргу, минуя промежуточную "явку" в Союзе.
Девятого марта. На рассвете приехали Эткинд и Дудин. Я снова позвонил на аэродром, убедился, что новая смена будет выполнять вчерашнее соглашение. К десяти поехали в морг. Холодный дождь. Мокрый серый маленький дворик на задах больницы Склифосовского. В небольшой серо-белесой каморке, на постаменте - гроб.
Платиновая седина. И розовое лицо, сглаженное, почти без морщин. Все черты скульптурно отчетливы. Не смерть - Успение.
У гроба Нина Антоновна Ольшевская, Аня, Надежда Яковлевна Мандельштам, Ника Глен, Юля Живова. И всё шли, медленно теснясь, задерживаясь, безмолвные люди. Много знакомых лиц, но больше совсем незнакомых.
Рая поехала за Лидией Корнеевной. Очень тревожно за нее, за ее сердце. Люди идут и идут. Несут цветы. Венков не видно - это не казенные похороны.
В тесноте, в печальном шепоте, всхлипываниях внезапное ощущение единства. Печальное единство. Естественное и свободное.Случится это в тот московский день,Когда хоронили Пастернака, тоже не было извещения, тоже не хотели, боялись прощания. И тогда в жаркий июньский день многие приехали в Переделкино вопреки, назло гонителям. Среди тысяч провожавших сновали десятки иностранных корреспондентов, топтуны и фотографы КГБ, метались чиновники Литфонда... У его гроба прозвучали не только печальные, но и гневные, обличительные слова...
Когда я город навсегда покину
И устремлюсь к желанному притину,
Свою меж вас еще оставив тень.
Прощание с Ахматовой было иным. Только скорбным. И скорбь - тихая, смиренная и гордая. Всё ей враждебное - трусливые происки, злые страхи - далеко от гроба, где-то там, за дверьми кабинетов Союза писателей и других учреждений.
У входа в морг на замызганные ступени вышел Ардов.
- Товарищи, начнем траурный митинг.
Он произносил обычные слова - надгробная риторика. Но в голосе - неподдельное горе. Потом говорил Лев Озеров:
"...Ахматова! Это имя - огромный вздох..." Эти слова пятьдесят лет назад вырвались из уст Марины Цветаевой. И мы повторяем их сегодня. И будем повторять всегда, потому что у больших художников нет смерти, есть только день рождения... Завершилась большая жизнь Анны Андреевны Ахматовой. Начинается, уже началось ее бессмертие..."
Ефим Эткинд говорил:
"В статье о Пушкине Ахматова писала, что Николая Первого и Бенкендорфа теперь знают лишь как гонителей Пушкина, как его ничтожных современников... Мы живем в эпоху Ахматовой. И наши потомки будут относиться к гонителям Ахматовой так же, как мы сегодня относимся к гонителям Пушкина".
Р. В тот же вечер было собрание в Союзе писателей - "Итоги литературного года". Кто-то из президиума объявил:
- Умерла Анна Ахматова. Почтим ее память вставанием.
Тамара Владимировна Иванова говорила взволнованно и гневно:
- Во дворе морга мне было смертельно стыдно за нашу организацию. Ведь времени было достаточно. Митинг мог быть и не самостийным, мог бы быть и здесь.
Ей отвечал Михалков:
- Хочу дать справку: это закономерно, что в адрес президиума тут ряд записок о смерти Анны Ахматовой. Спрашивают, почему московские писатели не получили возможности проститься. Считаю долгом рассказать, чтобы не было кривотолков. Она умерла в санатории, оттуда, как положено, была доставлена в морг Склифосовского - накануне праздника Восьмого марта. Тут уж ничего нельзя было поделать. По просьбе родственников вчера была по русскому православному обычаю панихида. А через три дня в Ленинграде будет гражданская.
Тамара Владимировна с места, громко:
- Все неправда! Все не так!
Михалков:
- Я имею информацию от Союза писателей, от руководства, совершенно точную. Мы обращались в ряд инстанций, никаких препятствий нет. Меня самого многое удивило, но...
На этом собрании говорила и я (это оказалось моим последним выступлением в Союзе).
Говорила о замечательных рукописях, которые все еще не стали книгами: "Реквием" Анны Ахматовой, "Крутой маршрут" Евгении Гинзбург, "Софья Петровна" Лидии Чуковской, "Новое назначение" Александра Бека, вторая часть романа "За правое дело" Василия Гроссмана ("Жизнь и судьба", но тогда я этого названия не знала). И тоже спрашивала: почему московским писателям, почему москвичам не позволили проститься с великим поэтом?
Ответ секретаря московского отделения:
- Два слова о похоронах. Михалков сказал правду. Регламент был такой установлен. Но, конечно, московскому отделению - и я себя тут не отделяю - надо найти возможность проводить Ахматову. Эту ошибку надо исправить, сделать большой вечер. А покойников бояться не надо!
Никакого "большого вечера Ахматовой" в Союзе писателей не было. А покойников боялись по-прежнему. Даже тех, кого хоронили торжественно - Эренбурга, Паустовского, Твардовского. Их гробы охраняли, сопровождали до могилы мундирные и штатские стражи, не подпускали "посторонних"...
Из дневника Л.
9 марта. В полночь я уезжал в Ленинград вместе с Иваном Дмитриевичем Рожанским и Вячеславом Всеволодовичем Ивановым. На вокзале толпились уезжающие и провожающие. Михаил Ардов с приятелями принес чемоданы Анны Андреевны, среди них главный - с рукописями, тетрадями, записными книжками. (В последующие годы я с горьким чувством вспоминал, как мы своими руками отдали их на вокзале встречавшим нас родственникам. Ирина Пунина разорила и разбазарила потом бесценный архив, продавала по частям в ЦГАЛИ, Ленинградской библиотеке Салтыкова-Щедрина, постыдно судилась с единственным законным наследником Львом Гумилевым.)
...Большой сине-белый собор. Пришли втроем с И. и М. Внутри - толчея. Обедня заканчивалась ритуальными здравицами, потом поминаниями по спискам. Толпа все густела. Вижу много знакомых лиц, ленинградские литераторы. Началось отпевание, но не видно, где гроб. Угадываю - там, куда шел митрополит. Люди с фото- и киноаппаратами снимают, подсвечивают, взбираются на табуретки. Внезапно пронзительный крик: "Хулиганы! Прекратите! Здесь храм!" Кричит Лев Гумилев... Пели, молились дольше, чем в Москве на панихиде. Служили пышнее и казеннее... По-своему казенно. Но вопреки всему, по-новому внятно сжимает сердце "Прости грехи вольные и невольные, с умыслом и без умысла... и сотвори вечную память..."
Сотвори память!
Когда началось прощание, мы сперва протиснулись к выходу, уже оттуда пробились к гробу. Юноши и девушки, сцепив руки, стояли живой оградой вокруг.
...Анатолий Найман заметил нас с И., пропустил. У гроба Аня, в темно-лиловом шарфе, заплаканная, усталая. По-светски знакомит с нами Льва Николаевича: "Это московские друзья Акумы"*. Он похож на мать лицом и какими-то интонациями, оттенками голоса. Но весь мельче. Невысокий. Болезненно одутловатое лицо. Глаза тусклые. Сердито кивнул нам, отрывисто, словно отмахиваясь, торопливо пожал руки. Отдаю ему стихи Беллы Ахмадулиной, посвященные смерти Ахматовой.
* Так называли Анну Андреевну в семье Пуниных.
- Никаких стихов у гроба не надо. Пошлость!
Вокруг много молодых. Бледный, взъерошенный Иосиф Бродский, угрюмо потемневший Толя Найман, незнакомый нам парень, широколицый, волосы в кружок, рот искривлен болью.
Вдоль гроба идут и идут - петербургские старухи в шапочках, повязанных шалями, нарядные девушки, юноши, интеллигенты, работяги в старых ватниках и снова петербургские старушки. Они целуют в лоб, покрытый белой полоской с черной славянской вязью. Некоторые плачут тихо, другие вслух причитают: "Боже, какая красивая". Распорядитель испуганно бормочет:
- Товарищи, пожалуйста, прошу поскорее, другие тоже хотят проститься. В Союзе писателей надо быть в два.
Кто-то сказал:
- Какая огромная ахматовка.
Молодые цепью оттесняют толпу. Выносим гроб к катафалку. Церковный двор запружен. На паперти - нищие, громко переговариваются.
- Она молитвенная была, прилежная... Завсегда подавала не меньше двугривенного, а то и по рублю на праздник. Хорошая была женщина, Царствие ей Небесное...
Пытаемся догонять катафалк на такси, на Литейном постовой милиционер задерживает: - Въезда на Воинова нет. Правительственные похороны.
Еще недавно ее поносили, прорабатывали от Владивостока до Либавы, но похороны "правительственные".
У Дома писателей толпа. Очередь на несколько кварталов. Сую писательский билет сначала лейтенанту, потом майору, потом полковнику, нас втискивают вне очереди в главный парадный вход. Сочувствующий милиционер: "Вы нажмите, утрамбуются". Там давка. Движемся медленно, шажками, подолгу стоим. За несколько минут одну ступеньку.
На втором этаже у гроба идет гражданская панихида.
В Комарове на кладбище двинулись несколько автобусов и множество легковых машин. У выезда из города внезапная остановка, все повернули обратно. Оказывается, забыли крест. Легковые машины обогнали катафалк. Большая толпа встречала его у ворот кладбища. В Комарове еще настоящая зима. К вечеру стало подмораживать. Топтались в снегу более ста человек. Олег Волков сказал:
"Семья просит, чтобы вы говорили у могилы". Речь у меня была подготовлена, впервые написал заранее. Волков несколько раз настойчиво называл мою фамилию ленинградскому литератору, открывшему траурный митинг.
Первым говорил Юрий Макогоненко. Вместо меня назвали Михалкова. Он в толпе грелся, попрыгивая, толкал соседей плечами, едва ли не хихикая. Достал из кармана бумагу с машинописным текстом и прочел нечто бесцветное, бездумное.
Потом говорил Арсений Тарковский, с трудом сдерживая слезы.
Последнее целование. Священник посыпал земли, положил листок с молитвой. Гроб забили. Когда забросали могилу, возник спор, куда ставить крест, в головах или в ногах. Спорили все более шумно, ссылаясь на обычаи и церковные правила. Высоким голосом сердился Лев Николаевич. Возражал ему священник. И опять кто-то сказал: "Посмертная ахматовка".
В ту же ночь мы уехали в Москву. В вагоне Надежда Яковлевна Мандельштам рассказывала о поминках в комаровской будке: "Пунины ненавидят Леву, он их тоже. Теперь начнется с архивом. Ирина Пунина еще натворит..." Она оказалась права.
* * *
Л. Первый вечер памяти Ахматовой устроили студенты математического факультета МГУ 31 марта 1966 года.
За полчаса до начала Тарковского и меня пригласили в деканат. Секретарь парткома и заместитель декана, встревоженные и смущенные, спросили, о чем мы собираемся говорить. Не можем ли показать тексты или хотя бы "тезисы выступлений".
Мы отказались:
- Никаких текстов и тезисов нет. Будем говорить то, что знаем, помним.
- Но вы понимаете, не надо заострять, ведь возможны политически сомнительные моменты. Среди наших студентов, то есть у некоторых, есть нездоровый интерес... Ведь было известное постановление ЦК, оно еще не отменено. Но, с другой стороны, конечно, великая поэтесса... Это первый вечер, нельзя допускать, чтобы возникла нездоровая политическая сенсация.
Мы с разной степенью раздраженности отвечали, по сути, одно и то же. Мы не собираемся устраивать никаких политических демонстраций, все будут говорить о великом поэте.
Начал студент В. Гефтер.
"Анна Андреевна обещала нам в прошлом году, что в первый же приезд в Москву придет к нам. Она не пришла, но она с нами".
Арсений Тарковский
"...Анна Ахматова умерла в том возрасте, когда людей принято считать старыми. При каждой встрече с ней я радовался тому, что ее ум становился все глубже, поэзия все больше адресована векам. Процесс внутреннего развития продолжался у нее до самого конца..."
Маргарита Алигер рассказывала о том, как она очутилась с Ахматовой в одной каюте, когда уезжали в эвакуацию:
"Анна Ахматова всегда была достойна времени, когда жила... Она была соизмерима с великими событиями истории и за это историей вознаграждена..."
Семен Липкин
"...Все говорили здесь о гармонии. Это верно. Но есть еще одна вещь, которая делает поэта поэтом. Это мысль. Без глубокой мысли нет поэзии, хотя она не составляет всего в поэзии... Когда читаешь Ахматову, - а я читаю ее всю жизнь, - как Пушкина, Лермонтова, Тютчева, поэтов ее ряда, всегда ощущаю, она умнее тебя...
...Вы, математики, знаете: то, что несправедливо, то неверно. А раз неверно, то и бессмысленно. Нет такой силы, которая отняла бы у Ахматовой Россию, а у России - Ахматову".
Вяч. Вс. Иванов
"Анна Ахматова много читала, много думала и о том, что отличает древнюю культуру Востока от Запада, и о том, что значит современная наука и чем она похожа на современное искусство. Но меня уводит от воспоминаний об этих разговорах мысль о ее судьбе. Большой поэт всегда смотрится в судьбу, как в зеркало...
Ее судьба была страшной. Анна Андреевна сама это понимала, но знала наперед, что связана именно с этой судьбой.
После тифа в Ташкенте ей пригрезилась пьеса, которая оказалась настолько похожей на то, что случилось потом, что она пьесу сожгла... Ей были присущи ясновидение, колдовство, ворожба, это особый дар, без которого не бывает великих поэтов... При этом она человек на редкость здравого смысла, веселый. Трудно представить себе, насколько веселый. До самого последнего времени для нее не существовало возраста. Иосиф Бродский, стихи которого она так ценила, был для нее таким же современником, как и Мандельштам, которого она всегда выделяла из ряда великих поэтов".
В заключение слушали магнитофонные записи. В большом зале, в безмолвии нескольких сотен молодых людей ее голос звучал совсем по-иному, чем раньше, когда мы слушали ее дома, звучал по-новому печально и торжественно.
В тот же вечер я прочитал речь, которую не удалось произнести у могилы.
"Поэзия Ахматовой, ее судьба, ее облик - прекрасный и величественный - олицетворяет Россию в самые трудные, трагические годы ее тысячелетней истории.
"Анна всея Руси" - так называла ее Марина Цветаева.
Анна всея Руси! Это гордость, непреклонная и в унижениях, и в смертельном страхе. Это смирение, именно смирение, а не кротость, и насмешливая трезвость даже в минуты высокого торжества. Величавая скорбь и вечно молодая озорная улыбка, женственность самая нежная и мужество самое отважное. Сильная изящная мысль ученого, ясновидение строгой пророчицы и неподдельное, наивное изумление перед красотой, перед тайнами жизни, та ведовская одержимость, когда чародейка и сама зачарована любовью, дыханием земли, колдовскими ладами заговорного слова.
Наше священное ремеслоАнна всея Руси, венчанная двойным венчанием - терновым венцом и звездной короной поэзии.
Существует тысячи лет...
С ним и без света миру светло.
Но еще ни один не сказал поэт,
Что мудрости нет, и старости нет,
А может, и смерти нет.
Ее поэзия целостна и многолика, она растет из живых противоречий, из единства сердца и разума, неостудимо-жаркого смятенного сердца и разума, блистательного, прозрачно-ясного. Ее поэзия открыта, распахнута настежь и сокровенна, таинственна, как ее жизнь, исполненная безмерных страданий и беспримерных побед, долгих печалей и мгновений радости...
В стихах Ахматовой - напевы русских песен - скорбных плачей, тихих молитв, лукавых частушек, безысходной острожной тоски, неизбывные мечты о счастье и бездны отчаяния.
В самых разных стихах - разных по настроению, по темам, по словарю - всегда явствен ахматовский лад, звучит ее неподражаемый голос. Но явственно также их корневое родство с Пушкиным, родство прямого поэтического наследования, родство слова и мироощущения, глубоко национального и вселенского. Ее поэзия запечатлела строгие ритмы петербургского гранита; свечение белых ночей; шелест царскосельских рощ, северных лесов и садов Ташкента; дыхание Невы и Черного моря, разрывы бомб на улицах блокадного Ленинграда; историю и современность России.
Пушкинская "всемирная отзывчивость" (Достоевский) присуща и Ахматовой, так же, как едва ли не всем нашим лучшим поэтам. В ее стихах живут образы древней Эллады и Рима, библейского Востока и современной Европы. Мужество Лондона, пылающего под бомбами, боль Парижа, захваченного гитлеровцами, это и ее мужество и ее боль...
Ее величие тем более явственно, что проступает отнюдь не в пустыне. Анна Ахматова была и наследницей и современницей великанов. Наш век озарен несравненным созвездием - Блок, Хлебников, Белый, Гумилев, Маяковский, Есенин, Мандельштам, Ходасевич, Цветаева, Пастернак. Она замыкает ряд, завершает эпоху.
...Она бессмертна, как бессмертно русское слово. А ее хулители осуждены либо на высшую меру полного забвения, либо на вечное, геростратовски-постыдное заключение в нонпарели комментариев к последнему тому будущего академического Полного собрания ее сочинений.
Для всех, кто знал Анну Андреевну, кто испытал счастье видеть ее и слышать, жизнь стала беднее, тусклее.
Однако нам остается память о ней, печальное и гордое утешение.
...Вечная память. Это не только слова молитвы - заупокойной скорбной мольбы и надежды. Это убежденное знание. Сознавая и чувствуя первозданный смысл этих слов, мы твердо знаем и верим - вечная память".
Источник: http://www.akhmatova.org/bio/orlova_kopelev.htm
Анна Ахматова: последние годы. Рассказывают Виктор Кривулин,
Владимир Муравьев, Томас Венцлова / Сост., коммент.
Рубинчик О. Е. СПб.: Невский Диалект, 2001. С. 76-91.
Томас Венцлова
Выступление на вечере поэзии Томаса Венцловы
Воспоминания об Анне Ахматовой
в музее Анны Ахматовой 18 мая 1995 г.
Расшифровка магнитофонной записи
(с дополнениями из дневников).Как все, вероятно, знают, девиз на воротах Фонтанного Дома - "Deus conservat omnia", взятый эпиграфом к "Поэме без героя", означает "Бог сохраняет все". Думаю, мы должны в меру сил подражать Господу и сохранять хотя бы то, что касается великих людей.
Моя память сохранила лишь мелочи из встреч и разговоров с Анной Андреевной Ахматовой, часто такие, которые уже известны из других источников. К тому же немногочисленные мелочи, так как я видел Анну Андреевну лишь десять-пятнадцать раз. При этом придется говорить и о себе самом, и я боюсь, что это может превратиться в распространенный в последнее время жанр "я и Ахматова" - жанр, которого надлежит избегать. Но все-таки попробую.
Начать следует с того, что мой отец был популярным и плодовитым советским - причем именно советским - писателем1. Эта ситуация имела многочисленные минусы, но все же и некоторые плюсы. Прежде всего, у него была неплохая библиотека, собранная в довоенной Литве и отчасти в Москве военных лет. Другие люди в Литве такие библиотеки уничтожали, спася стою свободу и жизнь. Отец считал, что может себе позволить ее не уничтожать. Не исключено, что он ошибался - могло и с ним случиться все что угодно, хотя и не случилось.
В школе нам преподавали русскую литературу наряду с литовской. И вот когда мы дошли до двадцатого века (а времена еще были самые малоприятные), у нас оказался неплохой учитель, ныне живущий в Израиле, - Михаил Шнейдер (или Шнейдерис), которого я вспоминаю с любовью. Он должен был преподавать четырех авторов в течение года: Горького, Маяковского, Шолохова и Фадеева. Но он, в общем, очень быстро отделался от Горького, Шолохова и Фадеева и целый год читал Маяковского, причем почти исключительно раннего. Известно, что Ахматова сказала как-то о Маяковском: это был великий трагический поэт, которого убили, как и всех остальных, только несколько иным способом2. И учитель дал нам это понять и почувствовать. Я Маяковского тогда полюбил - собственно говоря, я и сейчас к нему хорошо отношусь. Не ко всему, но ко многому в нем. Еще в школе я перевел на литовский язык "Облако в штанах" (к великому счастью, не напечатал) и прочел всего Маяковского, причем не без удовольствия. Читая его, стал натыкаться на имена других поэтов, о которых практически не знал ничего. Например:Я узнал,Интересно, что писал Блок и нельзя ли его достать и почитать. Или:
удивился,
сказал:
"Здравствуйте,
Александр Блок"3.Нет, Есенин,Хорошо бы почитать Есенина.
это
не насмешка.
В горле
горе комом -
не смешок4.И пусть,А кто такой Пастернак?
озверев от помарок,
про это
пишет себе Пастернак...5
Или в статье о Хлебникове - что это "честнейший рыцарь" футуризма6. Естественно, стало интересно.
Когда я стал этих поэтов искать, оказалось, что в библиотеке отца они все более или менее есть. При этом отец обо всех этих поэтах не только слышал, но втихомолку их уважал. С ним в какой-то мере можно было об этом разговаривать. Имя Ахматовой я узнал, кстати, не от Маяковского, а из того источника, из которого о ней узнавало большинство школьников той поры, - а именно из сочинения Андрея Жданова. Ее стихи меня, естественно, также заинтересовали. Уже к концу школы, потом в университете до меня стали доходить самиздатские списки строго запрещенных поэтов, которых в библиотеке отца не было: Мандельштама, Цветаевой, Гумилева ("Шатер"7, впрочем, у нас дома нашелся).
К двадцатому году жизни у меня сформировались, так сказать, диссидентские - во всяком случае, не совсем тривиальные для недавнего советского школьника - литературные вкусы. Очень важным было то, что русские поэты, почти все, давали уроки гражданского мужества - точнее, гражданского достоинства. Такие уроки далеко не всегда давали поэты, писавшие на моем родном литовском языке.
Анну Андреевну Ахматову я встретил впервые в начале шестидесятых годов, то есть очень поздно. Жил я тогда в Москве, снимал комнату у замечательной по-своему женщины, ныне уже покойной, - Елены Ивановны Васильевой8. О ней можно было бы долго и отдельно рассказывать. Она подрабатывала тем, что перепечатывала самиздат - не только самиздат, но в частности и самиздат. Однажды она по просьбе Анны Андреевны перепечатала ее статью "Пушкин и Невское взморье", и я должен был отнести этот текст автору. По-моему, это тот же экземпляр, который находится здесь, в музее, - я как-то узнал машинку, хотя, может быть, и ошибаюсь9.
Я пошел к Анне Андреевне в полном ужасе, поскольку понимал, к кому иду. Лет мне тогда было примерно двадцать пять, и я был парализован тем, что ее вижу и с ней разговариваю (точнее, даже и не разговаривал). Но она что-то обо мне слышала - что я сочиняю стихи, перевожу - и, помню, сказала: "Вы переводите Пастернака? Его, должно быть, трудно переводить, он такой неожиданный. И вообще, не увлекайтесь переводами. Это очень вредно для собственного писания - если можете сами писать, лучше себя на них не тратить10. Правда, был Жуковский - гений перевода, был Лозинский, но это исключения. И то жаль, что Лозинский ушел в переводы, хотя тому и были причины11. Или Шенгели - у него блестящий перевод "Дон Жуана"12, англичане говорят даже, что это лучше, чем у Байрона, - ну, Байрон вообще не слишком хороший поэт. Я тоже перевожу, я переводила и ваших литовских поэтов"13. Я говорю: "Да-да, Саломею Нерис", Все знали в Литве, что Ахматова переводила известную нашу поэтессу Саломею Нерис, которая считалась аналогом Ахматовой в литовской поэзии и сама в юности Ахматову переводила, хотя у нее была другая и, я бы сказал, более печальная судьба, чем у Ахматовой14. Ахматова ответила: "Нет, не только Саломею Нерис". И вспоминала еще одну литовскую поэтессу десятого разряда, Эгле15, - правда, она замечательна тем, что едва ли не первая по времени женщина среди писавших стихи на литовском языке16. Позднее я слышал, что таких десятистепенных поэтов переводила не Ахматова, а другие люди, которым она просто помогала, - они получали гонорар, а подпись бывала ее17. Тем не менее в те времена как бы в шутку говорили, что сочинения Ахматовой будут состоять из двенадцати томов переводов и одного тома ее собственных стихов - что весьма печально. То есть то, что она сказала, - "не увлекайтесь переводами" - имело какое-то отношение к ее собственному опыту18.
Чуть позже, в апреле 1964 года, меня к Анне Андреевне привел московский переводчик и подпольный в то время поэт Андрей Сергеев19. И я опять просидел у нее часа два в полупарализованном состоянии, боясь слово произнести, но слышал многое. Речь тогда шла о двух делах, которые Ахматову очень волновали. Во-первых, о деле Бродского, о котором я очень мало знал (с Бродским еще не был знаком и читал лишь несколько его вещей); во-вторых, о ложных вариантах биографии Ахматовой, которые распространялись за границей. Она на это резко реагировала. Об этом уже немало написано в различных воспоминаниях. Ахматова возмущалась Георгием Иваноым20, Сергеем Маковским21, не была в восторге от Глеба Струве22. Тогда в ходу была присказка: "Струве, который Филиппов", - в отличие от "Струве, который Туган-Барановский". Дело в том, что они были легальные марксисты Струве23 и Туган-Барановский, о которых упоминалось даже в советской школе; и был американский профессор Глеб Струве, сын легального марксиста, который вместе с Борисом Филипповым25 издавал сочинения русских опальных поэтов. Работу проделали они очень важную, но с огромным количеством ошибок, опечаток, неверных атрибуций, не тех текстов и т.д. Эти ошибки, и особенно ошибки чисто биографические, Ахматову очень раздражали (в ту нашу встречу на столе у нее как раз лежал изданный Струве и Филипповым первый том Гумилева26). Я мало что понимал, но слушал с превеликим интересом. тем более, что Ахматова с присущим ей юмором рассказывала бытовые детали - что на самом деле имело место и что биографы неправильно освещают. Мне тогда запомнилась ее фраза о какой-то знакомой даме: "Она назначила ему файф-о-клок не скажу когда". Фраза потом стала у нас крылатой.
Андрей Сергеев тогда прочитал ей свои стихи, как бы небольшую драматическую поэму на тему "Гамлета"27. Это было связано с недавно до того произошедшим убийством Кеннеди. Ахматова похвалила эти стихи и опять сказала фразу, которая мне запомнилась: "Чаша бывает так полна, что из нее падает пена. Это и есть новые произведения. Вот так случилась у Пушкина "Сцена из Фауста". Такое может случиться и с Гамлетом".
Надо сказать, что тогда Ахматову очень донимали молодые поэты. Десятки, если не сотни, приходили и читали ей свои стихи. От некоторых, особенно женщин, она пряталась. Но все же для каждого находила слова. В общем, было известно, как отличить, что ей нравится и что не нравится. Если стихи бывали хороши, она обычно говорила, что "в них присутствует тайна". Возможно, многие слышали о ее перепалке с Солженицыным, который тоже принес ей свои стихи. Ахматова сказала ему: "По-моему, в Ваших стихах мало тайны". Александр Исаевич не полез за словом в карман и ответил: "А Вам не кажется, что в Ваших стихах тайны слишком много?" Кстати, моего доброго знакомого, московского искусствоведа Евгения Левитина28, тоже привели знакомить с Ахматовой. После короткого обмена любезностями Анна Андреевна сказала: "Ну что ж, читайте Ваши стихи". Левитин взвился: "Какие стихи, я в жизни не написал ни одного стихотворения, я пришел не за этим!" Анна Андреевна сказала: "Боже, какое счастье! Наконец-то нормальный человек, без стихов".
На следующей встрече с Ахматовой, уже без Андрея Сергеева, я сам попал в подобную ситуацию. Я, правда, не стал ей читать свои литовские стихи. Но в 1964 году появилась литовская книжечка переводов из Ахматовой29. Первым шел старый, еще двадцатых годов перевод Саломеи Нерис - кстати, очень неплохой: "Хорони, хорони меня, ветер..." Очень много перевела известная литовская поэтесса Юдита Вайчюнайте30; а восемнадцать стихотворений дали переводить мне. Это было по большому блату, поскольку у меня имя было уже полуопальное. Скандалов, связанных с моей скромной особой, было немало - я на них специально нарывался31. Но все-таки мне дали перевести эти восемнадцать вещей. Опыт у меня как у переводчика был еще очень мал, но, к моему удивлению, стихи Ахматовой как-то ложились на литовский язык. Обычно я переводил их на ходу, расхаживая по Вильнюсу. Помню, после того, как перевел первое стихотворение, двенадцать строк: "Слаб голос мой, но воля не слабеет...", - я вошел в какой-то дворик и увидел пейзаж Вильнюса сверху, который до этого не видел никогда, хотя прожил в Вильнюсе к тому времени лет двадцать. Великолепный пейзаж; может быть, лучший пейзаж, какой в Вильнюсе вообще возможен, а там возможно многое. Я воспринял это как некий подарок - то ли судьбы, то ли неба - за то, что стихи эти сделал, хотя не обязательно как доказательство, что сделал хорошо. И вот я опять приехал в Москву, именно в Москву, не в Петербург, чтобы подарить Анне Андреевне ее литовскую книжку. Она меня приняла и попросила прочесть что-нибудь из переводов. я прочел ей одно стихотворение. Она промолчала. Прочел второе стихотворение, и тут она сказала: "Здесь, по-моему, даже интонация ухвачена"32. В общем, произнесла одну их тех фраз, которые у нее означали: "Пошли бы Вы подальше со своими стихами и переводами". Я ушел совершенно раздавленный. Но, к моему счастью, сразу после меня к Ахматовой пришел известный филолог Вячеслав Всеволодович Иванов33, знающий языков пятьдесят, а то и больше, в том числе и литовский язык. Он тут же, на глазах Ахматовой, переводы прочел и даже присовокупил комплименты, которых мои переводы, возможно, и не заслуживали. Тогда мне дали знать, что Ахматова меня приглашает - что я могу к ней прийти и с ней разговаривать, когда этого пожелаю. Она сделала надпись на этой книжке: "Томашу Венцлова тайные от меня самой мои стихи - благодарная Анна" (не Томасу, а Томашу, в польском варианте)34. Здесь уже присутствовало слово "тайна", это означало, что она переводы приняла. У меня сохранился еще один ее автограф. Это стихотворение "Воронеж", посвященное Мандельштаму35. Оно печаталось по цензурным соображениям без последних четырех строк.
Перевод, естественно, тоже был без этих строк, ибо их я не знал, хотя и подозревал, что стихи связаны с Мандельштамом. Ахматова мне их продиктовала (то есть они были записаны моей рукой под ее диктовку) и потом подписалась. Оба автографа хранятся сейчас в Вильнюсе, в Институте литовской литературы (наша аналогия Пушкинского Дома). Эти четыре строки я, естественно, перевел, сейчас они напечатаны и по-литовски36.
"Реквием" Ахматова мне не читала (стихи из него я тогда уже знал - во всяком случает, часть их), но показала недавно перед этим вышедшее мюнхенское издание37 с рисунком Сорина 1913 года - и тут же выругала его "Это отвратительный рисунок38. Портрет Петрова-Водкина тоже непохож - он робкий39". Самым похожим своим портретом она, кстати, считала портрет, сделанный в тридцатые годы Ниной Коган40, ученицей Малевича41. Позднее я заходил к Ахматовой в Петербурге, на квартиру на улице Ленина (она не любила эту часть города и называла ее "Франкфурт-на-Одере"42). Из наших бесед я далеко не все помню, но, к счастью, кое-что записано в моих дневниках. Собственно говоря, тогда это были не дневники, а хаотические заметки - увы, без дат (дело было, во всяком случае, в 1964-65 годах. Записывал я ее высказывания, уже вернувшись к себе домой, но старался передавать их дословно, сохраняя даже интонацию. Получилось ли, не знаю.
Приведу две или три мелочи, которые мне особенно памятны. Например, был разговор о языке эмигрантов. Я с молодой наглостью сказал банальность, которая тогда была очень в ходу в Литве, да и посейчас в ходу: что подлинный литовский язык сохранила только литовская эмиграция, что там он чист, не запятнан, а у нас советизирован, искажен, исковеркан. Анна Андреевна сказала: "Этого Вы мне не говорите. Про наш русский язык говорят то же самое. На самом деле язык эмигрантов - это мертвый язык, застывший, не развивающийся. Здесь мы его движем в ту или иную сторону, может быть даже портим, но живой язык только здесь. Я уверена, что с литовским языком происходит то же самое". Естественно, я растерялся, но принял это к сведению. Анна Андреевна, конечно, была права, как в абсолютном большинстве случаев, и, оказавшись в эмиграции, я это понял. Правда, случаются исключения, бывают эмигранты, способные развивать язык, но их всегда мало.
Помню и такой случай, когда я говорил о русских поэтах, которые для меня важны. И позволил себя сказать очевидную глупость - что Пушкин сейчас как-то менее актуален. На это Анна Андреевна сказала: "Пушкина Вы не трогайте". И прочла мне нотацию о том, что Пушкина трогать нельзя43.
Были разговоры о Пастернаку. К Пастернаку она относилась двойственно, хотя называла его дружелюбно - Борис. Но я слышал от нее резкие замечания о его характере и о "Докторе Живаго", большой поклонницей которого Анна Андреевна не была. В дневнике у меня записано: "Живаго" - неудача, и это неудача нас всех44. От "Спекторского" все тоже очень многого ожидали, а как только там начинаются диалоги, сразу видно, что неудачная вещь". Сборник "Второго рождение" Ахматова называла "первым падением" и по его поводу говорила (опять цитирую дневник): "Вы знаете, читатели ведь так ждут, чтобы поэт написал плохие стихи. Я это знаю по себе (и, кстати, свои плохие стихи люблю). Впрочем, сегодня "Второе рождение" таким уж плохим не кажется. Однако пример Пастернака показывает. что в определенном возрасте надо быть очень осторожным, потому что любое стихотворение может оказаться последним45. Мандельштам, конечно же, лучше Пастернака.
Был случай, когда к лежащей в больнице Анне Андреевне прорвался известный в те времена, ныне живущий на Западе литературовед, "архивный юноша". Тогда существовал, да и посейчас, видимо, существует слой "архивных юношей" - молодых людей, которые в те не слишком приятные годы проникали в архивы и находили в них то, что надо находить. Это было не только весьма осмысленной культурной деятельностью и не просто уходом от своего времени, но и видом общественного протеста. Упомянутый юноша был самым из них активным и больше других сделавшим, но его активность дошла до того, что он прорвался к Анне Андреевне в больницу и, как она рассказывала, спросил у нее: "Кто, по Вашему мнению, лучший русский поэт ХХ века? Пастернак, Мандельштам, Цветаева или Вы?" На что Ахматова ответила: "Следуйте за любым из них, и Вы не ошибетесь". И потом добавляла для знакомых: "По-моему, для кислородной подушки это было неплохо"46.
Помню разговор об одном композиторе. Имени его я не назову - он и посейчас здравствует на Западе. Ахматова слышала, что мы с ним знакомы, и спросила, что я о нем думаю. Я сказал: "Увы, я почти ничего не смыслю в музыке, но многие говорят: "Стравинский и Х - два величайших русских композитора 20-го века". На что Анна Андреевна рассмеялась и ответила: "Что Вы, это такой невоспитанный молодой человек", - причем ответила в тоне и стиле гранд-дамы, королевы. Естественно, в этом была некая глубинная правда: речь шла не просто о благовоспитанности, а о чем-то более существенном - о внутренней воспитанности, что ли. Ее композитору, пожалуй, действительно не хватало, что и повлияло на его судьбу: в своей профессии он добился гораздо меньшего, чем от него ожидали.
Из любимых историй Ахматовой, так называемых "пластинок"47, запомнилась история о разговоре с советским редактором, который потребовал вычеркнуть из ее стихов ангела. "Редактор говорит: "Ангелов нет". Я говорю: "А что есть?"
Речь часто заходила о Литве. Собственно, наше знакомство и началось с того, что Анна Андреевна сказала: "Вы второй литовец в моей жизни". Первым литовцем был Владимир Казимирович Шилейко48, фамилия его происходит от слова "шилас", что означает "бор" (в русском переводе это был бы Боровой или что-то в этом роде). Ахматова с гордостью говорила о его высокой репутации востоковеда, но тут же сказала и то, что она повторяла многим и что, по-моему, зафиксировано мемуаристами: "Как муж он был катастрофой в любом смысле". Сказала, что была в Вильнюсе, когда провожала Гумилева на фронт и что молилась тогда у вильнюсской святыни Остра Брама (по-литовски она называется Аушрос Вартай). Вот эт49от факт, по-моему, никакими биографами не зафиксирован. Ей, кстати, нравилась литовская народная скульптура на религиозные темы - книга об этой скульптуре была в Комарове.
От Анны Андреевны я услышал множество стихов, мне ранее не известных, например, мандельштамовские "Все чуждо нам в столице непотребной..." По ее словам, стихи эти принесла ей Надя, то есть Надежда Яковлевна Мандельштам, которая сама их раньше не знала (они хранились у кого-то в частном собрании)50. Показывала она мне и другое стихотворение Мандельштама, "Телефон", но считала его неудачным - называла "неприятным, противным". Однажды Ахматова сказала: "Вот это стихи на тему "Процесса" Кафки, но я их сначала написала, а "Процесс" прочла года через два" (стихотворение "Другие уводят любимых..." со строчкой "такое придумывал Кафка"). Особенно хорошо помню, как Анна Андреевна очень глубоко низким голосом читала отрывки из своей трагедии. При этом она спрашивала: "Похоже ли это на мои стихи? По-моему, нет. Ведь "Годунов" не похож на стихи Пушкина". Трагедию тогда собирался ставить театр в Дюссельдорфе, это Анну Андреевну очень занимало: она говорила, что переговоры с Дюссельдорфом, телеграммы оттуда как бы вторгаются в трагедию, становятся ее частью. В дневнике у меня отмечены ее слова: "Я написала трагедию в 1942 году в Ташкенте, ее знала Надя Мандельштам и другие, а вернувшись в Ленинград, я увидела, что там творится, и трагедию сожгла. Теперь - восстановила. Там два действия прозой, посредине - пролог в стихах. Написано обо всем, что с нами потом случилось. Она [героиня] должна играть роль, опускается железный занавес, ее увозят. Кто читал, говорит, что это на десять шагов впереди всего, что существует на Западе"51 (слова "десять шагов" Анна Андреевна произнесла с особым нажимом). "У меня будет одна книжка стихов, одна поэма, одна трагедия".
Когда речь зашла о Гумилеве, Ахматова сказала: "Это еще не прочитанный поэт". я заявил нечто в том смысле, что он поэт мистический. "Ну что Вы, это все поэты, - оборвала меня Анна Андреевна. - Но он все видел. Вот, о самолетах он даже догадался, что они будут тяжелые, - это тогда-то, когда летали одни этажерки. А Маяковский - это удивительно, до чего он ничего не видел..." "Да, не видел, не видел, а потом..." - попытался я вступиться за Маяковского. "Ну, это его частное дело. Гумилева знают плохо, знают о капитанах, а это же детские, гимназические стихи"52.
Говорила Анна Андреевна и о других поэтах, например о Блоке. В дневнике у меня записано: "Блока сейчас не любят. Одни молодые люди говорят, что его стихи - это как бы непреходящее, но не нужное, а другие, прыткие, просто совсем не принимают. Он ведь великий поэт ("великий" было сказано с нажимом), а ничто от него не пошло. Мы же были изгои, нас так ругали, как сейчас никому и не снилось. А от акмеизма все пошло. Мандельштама никто не знал, не знал, а потом после смерти - такое!"53 Статью Блока "Без божества, без вдохновенья", направленную против акмеизма, Андрей Сергеев назвал "доносом". "Да, так оно и есть, - согласилась Ахматова. - Но у него есть очень высокие статьи"54.
Как-то шла речь об эмигрантских воспоминаниях Ольги Анстей, где рассказано, как в эпоху террора к Ахматовой, у которой недавно арестовали сына, заходил Иван Елагин. "Это не статья, это вопль", - сказала Анна Андреевна с явным одобрением. Но стихи Елагина и само его имя для не было новостью55. "Ну разве я могу всех запомнить? Помню Бунина. У него прекрасная нобелевская речь. И сразу потом - в его воспоминаниях, как вручали Нобеля, - падение. У Камю речь тоже хорошая"56.
Помню также ее постоянные и очень ее волновавшие хлопоты по делу Бродского. Гонитель Бродского Александр Прокофьев, от которого тогда многое в ленинградском литературном мире зависело, проходил у нее под псевдонимом "Прокоп": "А Прокоп сделал то-то", "С Прокопом случилось то-то", "Прокопа вызвали в прокуратуру". Был рассказ о том, как Твардовский долго пил с "Прокопом" и под утро сказал ему: "А все-таки ты, Саша, сволочь", - на что "Прокоп" ответил: "Да. И буду"57. Анна Андреевна показывала мне стихи Бродского - "Закричат и захлопочут петухи...", - о которых сказала: "По-моему, замечательно"58. Показала еще стихотворение, дошедшее до нее из тюрьмы, - "В одиночке при ходьбе плечо..."59. был любимый рассказ о Бродском: когда только начиналась его поэтическая слава, к Ахматовой в Комарово являлись питерские девушки и с гордостью сообщали: "У меня полное собрание стихов Бродского". - на что Анна Андреевна отвечала: "Да? А сам она у меня гостит, сейчас вот за водой пошел".
"Поэты круга Бродского - одна школа, как были когда-то мы, акмеисты. Технический уровень у них у всех необычайно высок. Почти нет плохих стихов", - часто говорила она60. Сегодня Бродский говорит то же самое о новейших русских поэтах, присылающих ему свои сочинения.
(Несколько слов о Бродском. У него сейчас дочь, которой скоро два года. Зовут ее Анна Александра Мария. Анна - в честь Анны Андреевны, Александра - в честь отца Иосифа, и Мария - в честь матери Иосифа. Дочь трех имен).
О западной поэзии речь заходила редко, чаще о прозе, например о Фолкнере61. Помню, что Ахматова сказала: "Аполлинера, как и Данте, я воспринимаю только в оригинале. Хотя на русский переводить можно. Дело в том, что у нас гибкий, молодой язык со склонениями, а не склеротический французский или английский62. Немецкий язык зря называют неуклюжим - вовсе он не неуклюжий, лучше этих силлабических языков: ямб - так ямб, хорей - так хорей".
На моей памяти Анна Андреевна ездила в Италию и получила там премию "Этна-Таормина". Помню, когда ее спросили: "Как Вам понравилась Италия?" - она ответила: "Слишком поздно". Рассказывала и различные мелочи, касающиеся этого путешествия. Какие-то из них зафиксированы мемуаристами. Например, когда ей вручали премию, рядом стоял бюст какого-то древнего римлянина, который глядел на церемонию, по ее словам, достаточно кисло, как бы говоря: "Сафо - слышал. Ахматова? Не слышал никогда"63. Или когда ей вручали премию (миллион лир, что, кстати, не очень много, это около тысячи долларов), она сказала: "Зачем мне миллион лир? У меня есть одна лира". Помню, как она рассказывала о Венеции. В Венецию их завезли на поезде: они просто стояли на вокзале, и почти у колеса билась вода. И это все, что она в Венеции видела. А про Рим она сказала: "Город, которого не должно быть. Там Бог с кем-то спорил. Эти холмы, обрывы, эти барочные храмы - все это очень подозрительно"64.
Из более близких путешествий вспоминаю рассказ о поездке в Выборг, после которой Анна Андреевна написала стихи "Огромная подводная ступень...". (Я в те времена тоже как-то съездил в Выборг - интересно было взглянуть на бывшую Финляндию, во многом похожую на наши балтийские страны). "Это казненный город", - сказала Ахматова. В Выборге ее возил на машине какой-то знакомый молодой человек, и она не без юмора рассказывала, что при возвращении он развил бешеную скорость: "Я чувствовала, что с машиной так нельзя обращаться". В Питере оказалось, что молодой человек в дороге заболел - его поместили в лечебницу для нервнобольных65.
Еще из таких вот мелочей... Это уже касается последнего случая, когда я видел Ахматову. Я возил ее к тому же Андрею Сергееву, который жил очень далеко, на Филевской линии московского метро. Дома там были абсолютно одинаковые - "хрущевские" кварталы, где один дом не отличить от другого. Анна Андреевна сказала фразу, которая мне запомнилась: "Сейчас все жалуются - бензин, слишком много машин, загрязнение среды. Но никто не помнит, как было ужасно с лошадьми - какая грязь была и какая вонь". Когда мы доехали до Сергеева, произошло большое и тяжелое недоразумение: я завел Анну Андрееву не в тот дом. Перепутал дома. Мы поднялись на второй этаж, что при ее сердечной болезни было очень трудно. Оказалось, что это не так квартира, открыли чужие люди. Тогда Анна Андреевна спокойно сказала: "Исправляйте положение". И я, как сумасшедший, побежал искать настоящий дом, и все же нашел. Потом, как я слышал, Анна Андреевна меня даже простила - мне сказали, что она не умеет долго сердиться. Но в этот вечер уже со мной не разговаривала. А говорила она тогда важные вещи. То, что я запомнил из последнего разговора: молодое поколение (она имела в виду и Бродского, и Анатолия Наймана, и Дмитрия Бобышева, и еще кого-то), конечно, уже знает многое, но все-таки не знает и никогда не узнает, из какой грязи и крови они все растут, на какой грязи и крови все это замешано - то, чем мы живем сейчас.
Когда мы возвращались обратно на машине, она спросила меня - первый раз, кстати, и последний: "Легко ли меня переводить?" На что я в полном соответствии с действительностью сказал: "Очень трудно. Я переводил Пастернака, и там я позволял себе отсебятину. Когда переводишь Ахматову, отсебятины допускать нельзя, надо, чтобы было более или менее слово в слово и при этом сохранялся рисунок стиха. И вот это безумно трудно". Она ответила: "Я так и думала", - и была очень довольна; я почувствовал, что неловкость этого вечера рассеялась. Я привез ее к Любови Стенич66, где она тогда жила, помог ей подняться на пятый этаж, причем подъем продолжался примерно полчаса. И это был последний раз, когда я ее видел.
После этого Анну Андреевну увидел только на траурном прощании с ней, в Москве. Не в Петербурге и не в Комарове, а в Москве. Я там оказался случайно в день ее смерти, и так случилось, что проводил Анну Андреевну. Так же совершенно случайно за несколько лет до этого оказался в Москве, когда умер Борис Леонидович Пастернак.
Воспоминания эти отрывочны и неглубоки. но, как я уже сказал, мне кажется, что сохранять надо все - любую мелочь, касающуюся великого человека. Может быть, память мне в чем-то изменяет. Но надеюсь, что не очень.
Примечания
1. Антанас Венцлова (1906-1971) - литовский поэт, прозаик, литературный критик, мемуарист. В 1930-1931 гг. был одним из организаторов левой группы "Trečias frontas" ("Третий фронт"), сблизившейся с находившимися в подполье коммунистами, и редактором журнала с тем же названием. В 1932 г. окончил гуманитарный факультет Каунасского университета. Работал учителем в школе, был уволен по политическим мотивам. После введения советских войск в 1940 г. возглавил Министерство просвещения Литвы. Был избран депутатом так называемого Народного сейма, просившего правительство Советского Союза принять Литву "в семью советских народов". Во время Великой Отечественной войны А. Венцлова был эвакуирован, ездил на фронт. После войны был руководителем писательской организации, депутатом Верховного Совета СССР, членом ЦК КП Литвы. В 1971 г., перед смертью, ушел со всех постов. А. Венцлова - член-корреспондент Академии наук Литовской ССР (1949), заслуженный деятель искусств Литовской ССР (1965), народный писатель Литовской ССР (1965). В 1958 г. на литовском и в 1960 г. на русском издан роман "День рождения", отмеченный Государственной премией Литовской ССР. А. Венцлова создал автобиографическую трилогию "Весенняя река" (1964), "В поисках молодости" (1966), "Буря в полдень" (1969), которая, как и многие другие книги писателя, переведена на русский язык. Перевел на литовский ряд произведений Ч. Диккенса, Г. де Мопассана, М. Горького, В. Гроссмана и др.
В указателе к "Записным книжкам Анны Ахматовой" В. А. Черных ошибочно приписывает переводы ее стихов на литовский Антанасу Венцлове (Записные книжки, с. 780). Между тем все упоминания Венцловы относятся к Томасу. По сообщению Томаса Венцловы, его отец с Ахматовой знаком не был, но однажды послал ей в подарок свою книгу стихов об Италии "Ar tu žinai tą šali" ("Ты знаешь край"), вышедшую в 1964 г. в Вильнюсе с иллюстрациями С. Красаускаса, а после смерти Ахматовой написал о ней небольшую статью: "Ana Achmatova palydint" ("Провожая Анну Ахматову"; Literatūra ir menas, Вильнюс, 1966, 12 марта).
В 1975 г. в Открытом письме ЦК Компартии Литвы Т. Венцлова писал: "Мой отец, Антанас Венцлова, был убежденным коммунистом. Я и сейчас искренне уважаю его как человека. В частности, у него я учился принципам верности раз и навсегда выбранным идеалам. Однако, видя жизненную реальность, я составил для себя еще в юности несколько иное, чем у моего отца, представление о ней и иную систему взглядов" (Венцлова, с. 11). Андрей Сергеев в своих воспоминаниях "Портреты" посвятил отцу и сыну Венцловам главу "Дела литовские" (Оmnibus, с. 410-417). вверх
2. Ср. с ахматовской записью о "Поэме без героя": "Начинаю думать, что "Другая", откуда я подбираю крохи в моем "Триптихе" - это огромная траурная, мрачная, как туча - симфония о судьбе поколения и лучших его представителей, т.е. вернее обо всем, что нас постигло. А постигло нас разное: Стравинский, Шаляпин, Павлова - слава, Нижинский - безумие, Маяков<ский>, Есен<ин>, Цвет<аева> - самоубийство, Мейерхольд, Гумилев, Пильняк - казнь, Зощенко и Мандельштам - смерть от голода на почве безумия и т.д., и т.д." (Записные книжки, с. 191). См. также стихотворный фрагмент (1930-е): "Оттого что мы все пойдем / По Таганцевке, по Есененке / Иль большим Маяковским путем" (Автограф воспроизведен в кн.: Свою меж вас..., с. 208).
Ахматова познакомилась с Маяковским в 1913 г. В 1940 г. создано стихотворение "Маяковский в 1913 году". Маяковский упоминается в "Прозе о Поэме" и набросках балетного либретто (см.: Ахматова 1998, т. 3, с. 217; Записные книжки, с. 138, 174, 191, 208), автобиографических заметках (Записные книжки, с. 224, 266-267, 311, 556). А. Найман отмечает, что Ахматова была очень высокого мнения о поэзии Маяковского 10-х годов: ""…гениальный юноша, написавший "Облако в штанах" и "Флейту-позвоночник". Вспоминала о нем молодом с теплотой, почти нежностью. <…> Повторяла, что если бы так случилось, что поэзия его оборвалась перед революцией, в России был бы ни на кого не похожий, яркий, трагический, гениальный поэт. "А писать "Моя милиция меня бережет" - это уже за пределами. <…> "Впрочем, могу вам объяснить, - вернулась она к этой теме в другом разговоре. - Он все понял раньше всех. Во всяком случае, раньше нас всех. Отсюда "в окнах продукты, вина, фрукты", отсюда и такой конец"" (Найман, с. 132).
Отношение Маяковского к Ахматовой также было неоднозначным. Я. Черняк вспоминал, как "в 1922 году схлестнулся с Маяковским на так называемой "чистке поэтов" из-за Ахматовой. Когда он на мотив "Ухаря-купца" издевательски спел:Слава тебе, безысходная боль!я вскипел и выступил с речью. <…>
Умер вчера сероглазый король… -
Маяковский ответил язвительно…
- Есть такие р-р-революционеры: говорят, все можете разрушать, разрешаю… только Тургенева не трогайте, я его очень люблю. - И дальше: - Ахматова разрушена революцией - ее вычистить приходится - хочешь не хочешь" (Черняк Я. З. Из ташкентского дневника // Воспоминания, с. 375; см. также: Маяковский В. Выступление на первом вечере "Чистка современной поэзии" 19 января 1922 года // Маяковский В. Полное собрание сочинений: В 13-ти тт. Т. 12. М., 1959. С. 458-461). В конце 1920 г. К.Чуковский в Петрограде и в Москве выступал с лекцией "Две России. (Ахматова и Маяковский)" (первая публикация в журнале "Дом искусств", 1921, № 1. См. также: Рro et contra). 8 декабря того же года Маяковский нарисовал в "Чукоккале" шарж: Маяковский, Чуковский, Ахматова (см.: Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского. М., 1999. С. 221. А также: Каталог).
Однако С. Чиковани вспоминал, как Маяковский в 1926 г. в Тифлисе в кругу друзей неожиданно прочел два стихотворения Ахматовой: "Стихи Ахматовой он прочитал с редкой проникновенностью, с трепетным и вдохновенным к ним отношением. Все были удивлены. Один из присутствующих вслух выразил это удивление:
- Вы и Ахматова?
Маяковский чуть помрачнел, но ответил спокойно:
- Надо хорошо знать и тех, с кем не согласен, их нужно изучать.
Я робко заметил:
- Не думал, что ваш бархатный бас так подойдет к изысканным и хрупким строчкам Ахматовой…
Маяковский внимательно посмотрел на меня и деловым тоном ответил:
- Это стихотворение выражает изысканные и хрупкие чувства, но само оно не хрупкое, стихи Ахматовой монолитны и выдержат давление любого голоса, не дав трещины" (Чиковани Симон. Незабываемые встречи // Маяковский в воспоминаниях родных и друзей. М., 1968. С. 175).
Л. Брик писала: "Влюбленный Маяковский всегда читал Ахматову. <…> Читал он ее всегда полуиронически, иногда даже пел на какой-нибудь пошлый мотив самые лирические строки. Ахматову он очень ценил как настоящего поэта, а издевался над своими собственными сентиментами, с которыми не мог совладать. <…> Он читал тогда Ахматову постоянно, каждый день" (Брик Л. Маяковский и чужие стихи (Из воспоминаний) // Знамя, 1940, № 3. С. 166-167).
Когда в беседе с Ахматовой В. Виленкин сказал о близости ее к Маяковскому - "в смысле раскрепощения не-песенного стиха", она возразила: "Не в этом сходство, а совсем в другом: в одиночестве, в "несчастной любви"" (Виленкин В. Я. В сто первом зеркале. М., 1990. С. 45). вверх
3. "Хорошо!" (Маяковский В. Указ. изд., т. 8, с. 265-266). вверх
4. "Сергею Есенину" (Маяковский В. Указ. изд., т. 7, с. 100). вверх
5. "Тамара и Демон" (Маяковский В. Указ. изд., т. 6, с. 77-78). вверх
6. "В. В. Хлебников": "Во имя сохранения правильной литературной перспективы считаю долгом черным по белому напечатать от своего имени и, не сомневаюсь, от имени моих друзей, поэтов Асеева, Бурлюка, Крученых, Каменского, Пастернака, что считали его и считаем одним из наших поэтических учителей и великолепнейшим и честнейшим рыцарем в нашей поэтической борьбе" (Маяковский В. Указ. изд., т. 12, с. 28). вверх
7. Гумилев Н. Шатер. Стихи 1918. Севастополь, 1921; Гумилев Н. Шатер. Стихи. Ревель, 1922 (2-е изд.). вверх
8. Отдельнова-Васильева Елена Ивановна (ок. 1912 - 1988 или 1989) - по образованию юрист, но по специальности почти не работала. Жена поэта М. А. Светлова, затем - режиссера и сценариста Г. Н. Васильева, одного из создателей фильма "Чапаев" (1934). По словам Т. Венцловы, "Е. И. Васильева была, естественно, одной из "красавиц тогдашних". Сын ее Александр Георгиевич Васильев (1939-1993) был известным подпольным книготорговцем, поэтому их квартира в Москве, на Солянке (пер. Архипова), была центром притяжения интеллигенции". вверх
9. Статья написана в 1963 г., впервые опубликована в альманахе "Прометей", 1974, № 10, с. 218-225. В экспозиции МА был представлен муляж авторизованного машинописного текста статьи, сделанный с одного из экземпляров, хранящихся в РНБ (Ф. 1073, № 468-470). вверх
10. В статье "Почти автобиография" Т. Венцлова пишет: "Мне удалось ознакомить литовских читателей с творчеством выдающихся писателей нашего столетия <…> Я считал и считаю эту работу чем-то вроде миссии и при этом получал от нее истинное удовольствие" (Венцлова, с. 3.) вверх
11. Лозинский Михаил Леонидович (1886-1955) - поэт, переводчик Данте, Шекспира, Гете, Корнеля, Лопе де Вега, Гюго, Байрона и др. Лозинский входил в "Цех поэтов" и в 1912-1913 гг. издавал журнал "Гиперборей", в котором печатал произведения Ахматовой, Гумилева, Мандельштама, Блока, Кузмина и др. В 1914-1937 гг. работал в Публичной библиотеке в Ленинграде. В 1916 г. вышел единственный сборник стихов Лозинского "Горный ключ" (переиздан в 1922 г.). С середины 1920-х гг. Лозинский занимался исключительно переводами, в значительной степени - чтобы избежать социального заказа и возможных преследований (в 1921-1933 гг. он подвергался кратковременным арестам). Главный его труд - перевод "Божественной комедии" Данте (1936-1943) - был отмечен Сталинской премией (1946).
Лозинский - друг Ахматовой с 1911 г., автор посвященного ей стихотворения "Не забывшая" (1912). Ахматова также посвятила Лозинскому ряд стихотворений, среди которых - "Он длится без конца - янтарный, тяжкий день…" (1912), "Не будем пить из одного стакана…" (1913), "Они летят, они еще в дороге…" (1916) и "Надпись на книге" (1940). В 1965 г. для вечера памяти Лозинского Ахматова наговорила на магнитофон "Слово о Лозинском" (см.: Ахматова 1987, с. 189-191), а в 1966 г. написала воспоминания о нем (см.: Ахматова 1996, т. 2, с. 138-143). "Лоз<инский> прекрасно знал языки и был до преступности добросовестным человеком. Скоро он начал переводить, счастливо угадав, к чему "ведом". На этом пути он достиг великой славы и оставил образцы непревзойденного совершенства"; "О гражданском мужестве Лозинского знали все вокруг, но когда на собрании (1950) правления при восстановл<ении> меня в союзе ему было поручено сказать речь, все вздрогнули, когда он припомнил слова Ломоносова о том, что скорее можно отставить Академию от него, чем наоборот. А про мои стихи сказал, что они будут жить столько же, как язык, на котором они написаны" (Записные книжки, с. 702, 705). Об Ахматовой и Лозинском см.: Платонова-Лозинская И. Летом семнадцатого года… О дружбе А. Ахматовой и М. Лозинского // ЛО. 1989. № 5. С. 64-66. вверх
12. Шенгели Георгий Аркадьевич (1894-1956) - поэт, переводчик, теоретик стиха. Первая книга его стихов "Розы с кладбища" вышла в 1914 г., первая стиховедческая работа "Два памятника" - в 1918 г. После революции Шенгели служил в Наробразе, организовал студии стиха и издания журналов "Камена" и "Ипокрена". Жил в Керчи, Харькове, Одессе и т.д. В 1922 г. переехал в Москву, где преподавал в Литературно-художественном институте, а в 1925 г. стал председателем Всероссийского союза поэтов. Одним из первых почувствовал ужесточение государственной политики в литературе и искусстве. В 1937 г. отдал в Госиздат цикл из пятнадцати поэм, посвященных Сталину. "По свидетельству жены поэта Нины Леонтьевны Манухиной, рукопись была послана издательством на отзыв самому герою "эпоса", который принял ее благосклонно, но не настолько, чтобы она стала книгой. Вместо нее издательство довольно скоро выпустило другую книгу - "Избранные стихи" <…> Это была последняя прижизненная книга Георгия Шенгели" (Перельмутер Вадим. Живущий на маяке // Шенгели Г. Иноходец. М., 1997. С. 26). С 1933 г. Шенгели работал редактором в отделе "Творчество народов СССР" и в "секторе западных классиков" Гослитиздата, занимался переводами (произведения Верхарна, Гейне, Гюго, Байрона) и предоставлял переводческую работу Ахматовой, Мандельштаму, Тарковскому, Липкину, Петровых и др. Большинство поздних произведений Шенгели было опубликовано только в конце 1980-х - 1990-е гг.
Шенгели - друг Ахматовой, их общение началось в 1924 г. Автор двух стихотворений под названием "Анне Ахматовой" ("Гудел декабрь шестнадцатого года…", 1943; "Вам снился Блок, и молодость, и море…", 1951), а также слегка шаржированного карандашного портрета Ахматовой (см.: Перельмутер В. "Он знал их всех и видел всех почти…" // ЛУ. 1990. N 6. С. 125, - а также Каталог). В дневнике Ахматовой есть план "Люди в моей книге "Пестрые заметки" (Глава "Современники")". В план включен Шенгели: "Неуслышанный голос" (Записные книжки, с. 150).
В МА в составе ахматовской библиотеки хранится книга: Байрон Дж. Дон Жуан / Пер., послесл. и примеч. Г. Шенгели. М., 1947 (А-3588). На титульном листе - автограф переводчика: "Глубокоуважаемой и дорогой / Анне Андреевне Ахматовой / мой переводческий (и / терновый) "венец" / Г. Шенгели / 8/VIII 50". Известно, что прочитав перевод "Дон Жуана", Ахматова сказала: "Какая огромная и благородная работа!" (Перельмутер Вадим. Указ. соч. С. 30). Эпиграф из "Дон Жуана" - "In my hot youth - when George the Third was King" ("В мою пылкую юность - когда Георг Третий был королем") - Ахматова планировала предпослать первой главе первой части "Поэмы без героя" (см. Ахматова 1998, т. 3, с. 43, 97, 131). В статье ""Адольф" Бенжамена Констана в творчестве Пушкина" А. Ахматова упоминает "Дон Жуана" Байрона в связи с "Каменным гостем" (О Пушкине, с. 85-86). вверх
13. Ахматова перевела с литовского стихи С. Нерис, Л. Малинаускайте-Эгле и В. Миколайтиса-Путинаса. В МА хранится составленная Э. В. Песоцким библиография ее переводов, в том числе из литовской поэзии.
Миколайтис-Путинас Винцас (1893-1967) - поэт, драматург, романист, критик и историк литературы. Действительный член Академии наук Литовской ССР (1941). Народный писатель Литовской ССР (1963). Перевел на литовский язык стихотворения А. Пушкина, М. Лермонтова, И. Крылова. На русском языке издан сборник стихов: Миколайтис-Путинас Винцас. Дар бытия. Стихи. Вильнюс, 1966. В 1978 г. Т. Венцлова писал о судьбе Путинаса после включения Литвы в Советский Союз: "Поэт Путинас, уже немолодой и почтенный, некоторое время молчал, но вскоре начал публиковать, что положено. В повести о 1963 годе он протащил фразу, которая произвела впечатление на многих: дескать, нация должна созреть не только для свободы, но и для неволи. По-моему, это фраза капитулянтская. Не должно приучаться к роли раба. Впрочем, Путинас писал в стол стихи, которые сейчас всплывают в эмигрантских журналах. Переводил Мицкевича, заседал в Академии наук и был отчаянно несчастен…" (Милош Ч., Венцлова Т. Вильнюс как форма духовной жизни. [Переписка Ч.Милоша и Т.Венцловы. Письмо Т.Венцловы 1978 г.] // Старое литературное обозрение. М., 2001. № 1. С. 196.) вверх
14. Нерис (Бачинскайте-Бучене) Саломея (1904-1945) - литовская поэтесса. В 1928 г. окончила Каунасский университет, где изучала литовскую и немецкую литературу, а также педагогику. В 1928-1941 гг. учительствовала. Как писали о Нерис в советской печати, ее ранние стихи "были написаны под сильным влиянием буржуазно-эстетской символистской литературы. В них преобладают мотивы индивидуалистической "чистой лирики"" (Саломея Нерис. (Биографическая справка) // Нерис С. Стихотворения и поэмы. М., 1953). В 1931 г. в левом журнале "Третий фронт" опубликовала заявление о переходе в ряды "прогрессивных" писателей: "Отныне я сознательно выступаю против эксплуататоров рабочего класса". За сборник "Демиадисом зацвету" ("Diemedžiu žydesiu") Нерис была присуждена Государственная премия Литвы (1938), за сборник "Мой край" - Государственная премия СССР (1947, посмертно), в 1947 г. книгу перевели на русский язык. В 1954 г. Нерис присвоено звание народного поэта Литовской ССР. Нерис перевела на литовский язык повесть А. Куприна "Суламифь", рассказы В.Короленко и др.
Ахматова перевела двенадцать стихотворений Нерис и фрагменты из поэмы "Литва - земля родная". Переводы опубликованы в сборнике: Нерис С. Стихотворения и поэмы. М., 1953. Сборник открывается "Поэмой о Сталине" (1940), в переводе М. Зенкевича, и содержит в основном стихи, написанные в духе советской патриотической лирики. Заканчивается сборник знаменитой поэмой-сказкой, созданной по мотивам литовских народных сказок, - "Эгле, королева ужей" (1938-1940), в переводе М.Петровых. вверх
15. Эгле (Людмила Малинаускайте, 1864-1928) - литовская поэтесса. Родилась в семье ополячившихся дворян. Под влиянием деятеля литовского национального движения Й. Шлюпаса Эгле начала писать стихи и рассказы на литовском языке. Печаталась с 1884 г. В 1885 г. по приглашению Шлюпаса, который бежал от преследования царских властей и жил в США, Малинаускайте приехала в Нью-Йорк. Она вышла замуж за Шлюпаса и включилась в его борьбу против церкви. Постепенно литературные занятия были оставлены. После первой мировой войны Эгле вернулась в Литву.
Ахматова перевела восемь стихотворений Малинаускайте-Эгле (см.: Литовские поэты XIX века. М.; Л., 1962. С. 274-285). У Ахматовой был план неосуществленной "Женской антологии", которая должна была включить в себя ахматовские переводы стихов десяти поэтесс, в том числе - двух литовских: Нерис и Эгле (Записные книжки, с. 92). вверх
16. По словам Т. Венцловы, до Эгле "была одна литовская поэтесса, Каролина Праниускайте, сочинявшая больше по-польски". По другим сведениям, первой литовской поэтессой считается Уршуле Тамошюнайте (1847-1906), автор баллад "Конская гора" и "Сипсале" (Литовские поэты XIX века, с. 248-255). вверх
17. В ахматовском фонде Отдела рукописей РНБ хранятся: машинописные экземпляры переводов восьми стихотворений Эгле (ф. 1073, ед. хр. 435-442), некоторые - с незначительной правкой рукой Ахматовой; ее автограф - фрагмент перевода стихотворения "Оните и Ионукас" (ед. хр. 440); а также авторизованная машинопись краткого биографического очерка "Людмила Малинаускайте-Эгле" (ед. хр. 443). Это дает основания полагать, что если Ахматова и не была единственным автором переводов Эгле, то все-таки участвовала в работе над ними. В биографии литовской поэтессы есть факты, которые могли заинтересовать Ахматову, - в очерке "Людмила Малинаускайте-Эгле" говорится: "Малинаускайте была первая женщина-литовка, осмелившаяся не только посещать публичные собрания, но и выступать на них, что всех очень удивляло"; "Это одна из первых женщин-писательниц в литовской литературе". вверх
18. Ср. воспоминания Ахматовой о Мандельштаме: "Он при мне на Нащокинском говорил Пастернаку: "Ваше полное собрание сочинений будет состоять из двенадцати томов переводов и одного тома ваших собственных стихотворений". Мандельштам знал, что в переводах утекает творческая энергия, и заставить его переводить было почти невозможно" (Ахматова Анна. Листки из дневника // Ахматова 1996, с. 164).
А. Найман, переводивший совместно с Ахматовой Леопарди, Тагора и др., пишет: "К переводу Ахматова относилась как к необходимой тягостной работе и впрягалась в этот воз даже не пушкинской "почтовой лошадью просвещения", а смирной ломовой, трудящейся на того или другого хозяина. <…> Свои стихи она писала, когда хотела: то за короткий период несколько, то за полгода ничего, - а переводила каждый день, с утра до обеда. Потому-то она и предпочитала браться за стихи поэтов, к которым была безразлична, и еще охотней - за стихи средних поэтов: отказалась от участия в книге Бодлера, не соглашалась на Верлена. <…> Вообще, с публикацией ахматовских переводов следует вести себя осторожно. Например, переводы Леопарди, сделанные одним, обязательно исправлялись другим, и распределение их в книжке под той или другой фамилией очень условно. Я знаю степень помощи, долю участия в ахматовском труде - Харджиева, Петровых. Ручаться за авторство Ахматовой в каждом конкретном переводе никто из людей, прикосновенных к этим ее занятиям, не стал бы. Самое лучшее было бы выполнять ее волю, неоднократно ею разным собеседникам высказанную: в ее книгах после смерти переводов не перепечатывать" (Найман, с. 215, 218). вверх
19. Ср. в "Записных книжках Анны Ахматовой": "Суббота <…> Сергеев и Венцлова"; "Суб<бота> Венцлова. Магнитофон" (Записные книжки, с. 456-457). По свидетельству Т. Венцловы, в тот день (11 апреля 1964 г.) в его присутствии стихи в чтении Ахматовой записывали на магнитофон - то ли для радио, то ли для вечера в музее Маяковского.
Сергеев Андрей Яковлевич (1933-1998) - поэт, прозаик, переводчик, мемуарист. В 1996 г. получил Букеровскую премию за роман "Альбом для марок". Занимался переводами англо-американской поэзии. И. Бродский отмечал: "Для меня Сергеев не только переводчик. Он не столько переводит, сколько воссоздает для читателя англоязычную литературу средствами нашей языковой культуры. Потому что англоязычная и русская языковые культуры абсолютно полярны" (Волков, с. 139). С Ахматовой Сергеев познакомился в 1960 г. В 1965 г. Ахматова упомянула его имя, давая интервью: "Есть уже столь же превосходные молодые переводчики: Анатолий Гелескул, Андрей Сергеев, Анатолий Найман" (Ольшевский М. Мысли, планы, дела… Беседа с Анной Ахматовой // Смена, 1965, 6 июля). В книге воспоминаний "Портреты", в главе "Ахматова", он писал: "Осенью 1961 я неожиданно сочинил стихи про Ахматову. Послал ей по почте.
Зимой оказался в Ленинграде. Позвонил и услышал:
- Сейчас же заходите! Я вам такое покажу…
Мои стихи некой частностью словесно совпали со стихами, которые она тогда написала о себе: "Если б все, кто помощи душевной…"" (Оmnibus, с. 379).
Речь шла о стихотворении А. Сергеева "Ахматовой":Волос музы российской ворон,Ср. эпизод начала 1920-х гг. в мемуарах Г. Иванова, рассказанный им со слов О. Судейкиной (а возможно, и выдуманный автором): "Аня раз шла по Моховой. С мешком. Муку, кажется, несла. Устала, остановилась отдохнуть. Зима. Она одета плохо. Шла мимо какая-то женщина… Подала Ане копейку. - Прими, Христа ради. - Аня эту копейку спрятала за образа. Бережет…" (Иванов Г. Петербургские зимы // Иванов Г. Собрание сочинений: В 3-х тт. Т. 3. М., 1994. С. 55).
Платье ветхо, да взгляд орлин,
Вот сама с собой разговором
Занятая, из свежих руин
Выбирается с грузом печали
Прямо в праздничные времена,
И действительностью за плечами
Лишь телесно обременена.
Что друзей и врагов опека,
Раз наградой за верный стих
Поданная старушкой копейка,
Легшая за святое святых.
Ср. также со стихотворением Ахматовой "Если б все, кто помощи душевной…", в рукописи "Бега времени" (РГАЛИ) имеющем дату "1961. Вербное воскресенье", а в машинописном экземпляре с правкой (РНБ) - 1960.
На смерть Ахматовой А. Сергеев написал стихотворение "Комарово: 10 марта 1966":- С ее кончиной кончилась эпоха!-Ранее не публиковавшиеся стихи А.Сергеева "Ахматовой" и "Комарово: 10 марта 1966" опубликованы по текстам, предоставленным МА его вдовой Галиной Муравьевой, за что выражаем Г. Муравьевой глубокую признательность. вверх
Твердили они все до одного,
Скрывая плохо
Восторг по поводу того,
Что в самом деле кончилась эпоха,
Ораторы, как призраки, стирались,
Расслаивались, зыбились, текли.
Отчетливая зримая реальность
Уверенно ушла за край земли.
Нам было видно вдалеке,
На черной греческой реке
Гребца с оболом за щекой
И тот, живее, чем живой,
Преображенный смертью облик:
Огромная и светлая, как облак,
Душа ее стояла над кормой,
Равно открытая друзьям,
Нам, провожавшим здесь, и тем, встречавшим там,
И я не отыскал названья
Для этой встречи и прощанья.
А между тем отверстая могила
Преподавала равенства урок:
Как солнце черное, она светила
И тем, кто ликованья скрыть не мог,
И нам, пришедшим плача на порог,
И в этом черном равенстве скрывалась
Последняя божественная шалость -
Ах, как она умела и могла!
Итак, она с улыбкою прощалась,
Итак, она с эпохою ушла.
Но если вспомнить все ее дела,
То, чем она дышала и жила, -
Ее эпоха только начиналась.
20. Ахматова о Г.Иванове: "Георгий Иванов сидит в Париже, знает, что никто его за руку не схватит, и сочиняет, как господа развлекались. Взгляд из лакейской. А как мы читали "Столп и утверждение истины" - этого он не заметил" (Оmnibus, с. 377).
О Г. Иванове см. также примеч. № 24 на с. 158. вверх
21. Маковский Сергей Константинович (1877-1962) - поэт, искусствовед, литературный критик, издатель, мемуарист. Организовал и редактировал журнал "Аполлон" (1909-1917), в котором сотрудничали И. Анненский, Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам, М. Лозинский и др. В 1920 г. эмигрировал, жил в Праге, Париже. За рубежом опубликовал восемь сборников стихотворений, мемуары "Силуэты русских художников" (1922), "Портреты современников" (1955), "На Парнасе "Серебряного века"" (1962) и др.
Маковский познакомился с Ахматовой в 1910 г. Очерк "Николай Гумилев (1886-1921)" из книги "На Парнасе "Серебряного века"" возмутил Ахматову: "Маковский поверил басне, кот<орой> в 10-х годах не существовало, и вместо того, чтобы писать об участии Гумилева в "Аполлоне", о зарождении акмеизма, о позиции "Башни", он, старый человек, срамится, передавая с чьих-то слов, зловонные и насквозь лживые семейные истории"; "Он умудряется сделать почти столько же ошибок, сколько пишет слов: развязность его не имеет предела"; "Маковский, по-видимому, в старости жгуче завидовал Гумилеву. Этим объясняется его возмутительное поведение" (Записные книжки, с. 313, 342, 737). вверх
22. Струве Глеб Петрович (1898-1985) - историк литературы, литературный критик, переводчик, поэт. Эмигрировал в 1918 г. Жил в Англии, Германии, США. Вел активную деятельность по изданию и популяризации русской литературы XIX-XX вв., особенно - поэзии Серебряного века. В 1952 г. в Нью-Йорке вышла книга Н. Гумилева "Отравленная туника и другие неизданные произведения" - под редакцией Струве и с его вступительной статьей. Затем последовали другие издания, осуществленные Струве совместно с Б. Филипповым: собрание сочинений О. Мандельштама (Нью-Йорк, 1955); сочинения Б. Пастернака в трех томах (Анн Арбор, 1961); четырехтомное собрание сочинений Н. Гумилева (Вашингтон, 1962-1968); "Реквием" А. Ахматовой (Мюнхен, 1963; Нью-Йорк, 1969; Мюнхен, 1974); трехтомное собрание сочинений О. Мандельштама (Вашингтон, 1964-1969); собрание сочинений А. Ахматовой в трех томах (Вашингтон-Париж, 1965-1983) и мн. др. Среди трудов Струве - исследование на английском языке "Soviet Russian literature" (L., 1935), неоднократно переиздававшееся и переведенное на французский, немецкий и итальянский. В 1956 г. в Нью-Йорке вышла книга "Русская литература в изгнании".
В 1922 г. в Праге в журнале "Русская мысль" (кн. VI-VII) была опубликована посвященная Ахматовой статья Г.Струве "Письма о русской поэзии", где он писал: "Проклятый круг личной любви и муки вдвинут в другой, более страшный круг скорби всероссийской, напоминающий круги Дантовского Ада" (цит. по изд.: Pro et contra, с. 397). В 1965 г. вышел первый том собрания сочинений Ахматовой с двумя предисловиями: Струве "Anna Akhmatova" и Филиппова "Анна Ахматова". Ахматовская реакция на этот том содержится в записных книжках: "Стр<уве> не подозревает, что после вечера "Р<усского> сов<ременника>" в Москве было первое пост<ановление> в 1925 г. Даже упоминание моего имени (без ругани) было запрещено. <…> Г-ну Струве кажется мало, что я тогда достойно все вынесла, он, якобы занимаясь моей поэзией и издавая толстенный том моих стихов, предпочитает вещать: "ее звезда закатилась". И бормочет что-то о новом рождении в 1940 г. <…> Затем, как может не прийти в голову г-ну Струве, что в то время я писала нечто, что не только печатать было нельзя, но даже читать т<ак> н<азываемым> "друзьям""; "Этот I-ый том производит впечатление последней корректуры, над которой еще надо сериозно поработать: перепутаны даты ("Если <плещется>"), развалилась целая поэма ("Путем…"), нет цикла ("Новоселье"), возникли произвольн<ые> инициалы ("Нам встречи нет"), все в чудовищных опечатках, никуда не годится расположение стихов" (Записные книжки, с. 697-699).
Ахматова виделась со Струве во время зарубежной поездки 1965 г.: "На церемонию в Оксфорд приехали и некоторые русско-американские слависты во главе с Глебом Струве. Объяснение с ним по поводу того, что он пишет о ней, не привело к примирению. На ее возмущенные слова о том, что он говорит неправду, доказывая, что она "кончилась" в 1922 году, Струве заметил, что у него нет оснований менять свою общую концепцию. По-разному они смотрят и на ее роль в жизни Гумилева. Политика для Струве дороже истины…" (Оксман Ю. Г. Из дневника, которого я не веду // Воспоминания, с. 646). вверх
23. Струве Петр Бернгардович (1870-1944) - философ, экономист, правовед, историк. Редактор журнала "Освобождение" (1902-1905). Член ЦК партии кадетов (1906). Автор концепции "Великой России" (1908). Основатель "Лиги Русской Культуры" (1917). Соавтор сборников "Вехи" (1909) и "Из глубины" (1918). Член правительства у П. Н. Врангеля. С 1920 г. в эмиграции. В молодости - представитель "легального марксизма", позже - приверженец идеологии либерального консерватизма.
В 1965 г., в разговоре с Н.Струве, Ахматова упомянула статью Н. Недоброво "Анна Ахматова", опубликованную в журнале "Русская мысль" (1915, № 7): "Это ваш дед, Петр Бернгардович, ее заказал" (После всего, с. 254). вверх
24. Туган-Барановский Михаил Иванович (1865-1919) - экономист, историк. В период революции 1905-1907 гг. вступил в партию кадетов. С 1913 г. - профессор Петербургского политехнического института. После Февральской революции 1917 г. уехал на Украину. Занимал пост министра финансов при Украинской Центральной Раде до января 1918 г. Участвовал в организации Украинской Академии наук. вверх
25. Филиппов (Филистинский) Борис Андреевич (1905-1991) - литературовед, издатель, поэт, прозаик, мемуарист. Автор более 30 книг стихов, беллетристики, литературных эссе и т.д. Редактор и соредактор изданий, подцензурных в России (см. примечание № 22 на с. 211.).
Б.Филиппов окончил Ленинградский институт восточных языков. В 1928-36 гг. учился в Институте промышленного строительства Главстройпрома и работал в ленинградских строительных учреждениях. Неоднократно арестовывался по обвинению в контрреволюционной деятельности, с 1936 по 1941 г. находился в лагере. Во время Великой Отечественной войны был в оккупированном Новгороде, потом в Риге, откуда перебрался на Запад, жил в Германии в лагерях беженцев. В 1950 г. уехал в США, где работал на радиостанции "Голос Америки", преподавал русскую литературу в университете в Вашингтоне, занимался издательской деятельностью.
Б.Филиппов - автор статьи ""Поэма без героя" Анны Ахматовой", опубликованной в США в альманахе "Воздушные пути" (1961, № 2) одновременно с одним из вариантов "Поэмы". Эту статью Ахматова включала в перечни посвященных ей работ и суждений о "Поэме": "Поэма Канунов, Сочельников (Б. Филиппов)" (Записные книжки, с. 261). В то же время она отмечала: "Б. Ф<илиппов> копнул глубоко, но не в том месте. Ему бы начать с "Голоса памяти" в "Четках", просто посвященно<го> О. С<удейкиной>" (Записные книжки, с. 189). вверх
26. В дневниках Ахматовой дано подробное опровержение статьи Г.Струве "Н.С.Гумилев. Жизнь и личность", помещенной в первом томе собрания сочинений Гумилева (см. Записные книжки, с. 267, 363). вверх
27. Драматическая поэма А. Сергеева "Гамлет" не опубликована. вверх
28. Левитин Евгений Семенович (1930-1998) - искусствовед. Работал в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина в Москве. Автор книги "Современная графика капиталистических стран Европы и Америки" (М., 1959). Составитель каталогов выставок современных художников Швейцарии, Бразилии, Мексики и проч., а также каталога "Лауреат Ленинской премии, народный художник СССР Владимир Андреевич Фаворский" (М., 1964). Подготовил альбом "Рембрандт, Харменс ван Рейн, 1606-1669. Офорты" (Л., 1972), альбомы по западноевропейскому рисунку из фондов музея им. А. С. Пушкина и др.
Е.С.Левитин подготовил выставку, посвященную Б. Пастернаку (см.: Мир Пастернака / Сост. Е.Левитин и др. М., 1989), а также издание: Пастернак Б. Не я пишу стихи… Пер. из поэзии народов СССР / Сост., текстол. подг. и коммент. Е.С.Левитина. М., 1991. Н. Мандельштам писала о Левитине (не называя его фамилии) как о "первом вестнике возрождения интеллигенции, которая пробуждается, переписывая и читая стихи" (Мандельштам Н. Я. Воспоминания. М., 1999. С. 396; см. также с. 391-393). В завещании Н. Мандельштам Левитин назван в числе будущих хранителей архива О. Мандельштама (см. примеч. 19, с. 156). Умер Левитин в Иерусалиме. вверх
29. A. Achmatova. Poezija. Vilnius, 1964. Эту книгу Ахматова неоднократно включала в список своих переводов (см. Записные книжки, с.347, 371, 418 и др.). вверх
30. Вайчюнайте Юдита (1937-2001) - литовская поэтесса, переводчица, драматург. В 1959 г. окончила историко-филологический факультет Вильнюсского университета. Однокурсница и друг Т. Венцловы. Печаталась с 1956 г. Автор многих поэтических сборников, а также стихов и пьес для детей (см.: Вайчюнайте Ю. Стихи. М., 1964. 72 с.; Вайчюнайте Ю. В месяц незабудок. М., 1987). Перевела на литовский язык ряд стихотворений Ахматовой и "Реквием". вверх
31. Так, в 1960 г. Венцлова с несколькими друзьями подготовил литовский номер московского самиздатского журнала "Синтаксис". Приблизительно в то же время он стал одним из основателей неподцензурного издательства "Елочка", выпускавшего русские и литовские книги. В 1968 г. Венцлова поставил свою подпись под протестом в связи с судом над Александром Гинзбургом и Юрием Галансковым. В 1975 г. он направил Открытое письмо в адрес ЦК Компартии Литвы с изложением своих политических взглядов и просьбой отпустить его за границу. В 1976 г. Венцлова - участник литовской Хельсинкской группы. После всех этих событий власти выпустили Венцлову за границу, а в 1977 г. лишили его советского гражданства. О правозащитной деятельности Т. Венцловы см. в его книге "Свобода и правда" (Венцлова). вверх
32. Ср. дневниковую запись Н. Пунина от 21 февраля 1946 г.: "Я <...>: "Поэты - не профессионалы". Акума <домашнее имя Ахматовой. - О. Р.>: "Да, известно, это что-то вроде аппарата, вроде несостоявшегося аппарата, сидят и ловят; может быть, раз в столетие что-то поймают. Ловят, в сущности, только интонацию, все остальное есть здесь. Живописцы, актеры, певцы - это все профессионалы, поэты - ловцы интонаций" (Пунин, с. 400). Ср. также в стихотворении Ахматовой "Ты, верно, чей-то муж и ты любовник чей-то…" (1963): "А ты поймал одну из сотых интонаций, / И все недолжное случилось в тот же миг" (Ахматова 1996, т. 1, с. 295); в заметке о Лермонтове "Все было подвластно ему" (1964): "…он владеет тем, что у актера называют "сотой интонацией". Слово слушается его, как змея заклинателя: от почти площадной эпиграммы до молитвы" (Ахматова 1996, т. 2, с. 134). вверх
33. Иванов Вячеслав Всеволодович (р. 1929) - лингвист, литературовед, киновед, переводчик, поэт, мемуарист. Основные научные труды Иванова посвящены сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков; клинописи хеттского языка, африканским и енисейским языкам; теории письменности; славянской мифологии; общей семиотике; математической поэтике и лингвистике. Иванов - член РАН, Британской Академии, Американской Академии наук и искусств и многих других научных учреждений мира. Директор Института мировой культуры МГУ. В 1989-1993 гг. был директором Российской Библиотеки имени Рудомино. В 1989-1991 гг. преподавал в Стенфордском университете. Преподает в Университете Лос-Анджелеса.
За поддержку Пастернака в 1958 г. Иванов был изгнан из Московского университета и журнала "Вопросы языкознания" (подробнее об этом см.: Иванов Вяч. Вс. Голубой зверь (Воспоминания) // Звезда. 1995. № 3. С. 156-167). Иванов участвовал в хлопотах по освобождению И. Бродского, а также Ю. Даниэля и А. Синявского; сотрудничал с А. Сахаровым. В 1989-1991 гг. был народным депутатом СССР (от АН СССР), в октябре-декабре 1991 г. - членом Верховного Совета СССР.
Вяч.Вс.Иванов (домашнее прозвище - Кома) - сын писателя Вс.В.Иванова, друг Пастернака и Ахматовой, с которой познакомился в 1942 г. в Ташкенте. В воспоминаниях об Ахматовой он пишет: "Хотя до осени пятьдесят восьмого года мы не только были знакомы, не раз виделись и у общих знакомых (в том числе у Бориса Леонидовича Пастернака), и у нас дома, никогда не было разговора вдвоем, обычно беседа бывала прилюдной. Но в конце ноября пятьдесят восьмого года - в пору начала травли Пастернака и затеянной против меня в связи с ним кампании в университете - мне передали, что Анна Андреевна просит меня позвонить и прийти к ней" (Иванов Вяч. Вс. Беседы с Ахматовой // Воспоминания, с. 476-477). Так началась дружба. 19 января 1966 г., за полтора месяца до смерти, Ахматова записала: "Вчера у меня был Кома. Как всегда, большой разговор" (Записные книжки, с. 695). В апреле 1964 г. по просьбе Ахматовой Вячеслав Всеволодович внес в ее записную книжку свое стихотворение "Выпросил на небесах у Бога…" (Записные книжки, с. 455). Иванов - автор трех посвященных Ахматовой стихотворений, в числе которых - написанное вскоре после ее смерти "Вокзал был в начале девятого…" (Иванов Вяч. Вс. Голубой зверь, № 1, с. 188-189). Его статьи " "Поэма без героя". Поэтика поздней Ахматовой и фантастический реализм", "К истолкованию стихотворения Ахматовой "Всем обещаньям вопреки"", "Ахматова и Пастернак. Основные проблемы изучения их литературных взаимоотношений", а также тезисы "Ахматова и категория времени" см. в издании: Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. II. Статьи о русской литературе. М., 2000. С. 246-266. Письмо Иванова к Ахматовой от 1 сентября 1963 г. см. в статье: Крайнева Н. И., Тименчик Р. Д. Из архива Анны Ахматовой // Поэтика. История литературы. Лингвистика. Сб. к 70-летию Вячеслава Всеволодовича Иванова. М., 1999. С. 435-442. В МА хранится сделанная сотрудниками магнитофонная запись воспоминаний Вяч. Вс. Иванова об Ахматовой. вверх
34. Эта надпись с пометой "22 марта 1965. Москва" сохранилась в записной книжке Ахматовой (Записные книжки, с. 599). вверх
35. Написано в 1936 г. Подробнее об этом стихотворении см.: Basker M. "Fear and the Muse": An Analysis and Contextual Interpretation of Anna Achmatova's "Voronež" // Russian Literature. 1999. Vol. 45, № 3. P. 245-360. вверх
36. Литовский перевод стихотворения "Воронеж" без последней строфы опубликован в сб.: A. Achmatova. Poezija. Vilnius, 1964. Полностью: Balsai: Iš pasaulines poezijos. Sudare ir išverte Tomas Venclova. Southfield, Mich, 1979. А также: Pašnekesys žiemą. Eileraščiai, vertimai. Vilnius, 1991. вверх
37. Ахматова А. Реквием. Мюнхен, 1963. Это первая публикация "Реквиема", осуществленная Г. Струве и Б. Филипповым без ведома автора, по одному из самиздатских списков. В Советском Союзе "Реквием" впервые опубликован в 1987 г. (Октябрь, 1987, № 3, с. 130-135, публикация З. Томашевской). вверх
38. Сорин Савелий Абрамович (1878-1953) - живописец, график. Участвовал в выставках "Мира искусства". В 1920 г. уехал в Марсель, затем перебрался в Париж. Славу принесли ему портреты известных писателей, артистов, режиссеров, а также многочисленные женские портреты. Умер в Нью-Йорке. По завещанию художника его вдова А. Сорина подарила российским музеям 20 произведений. Портрет Ахматовой Сорин выполнил в 1914 г., сейчас местонахождение его неизвестно. Эту работу Сорина Ахматова в разговоре с Н. Струве назвала "конфетной коробкой" (После всего, с. 257). А. Сергеев вспоминал слова Ахматовой по поводу мюнхенского издания "Реквиема" 1963 г.: "Они издали "Реквием" - ну, как вам это понравится? - с портретом Сорина! К "Реквиему" можно только это. - Она достала заношенный пропуск в Фонтанный дом" (Omnibus, с.377). вверх
39. Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878-1939) - живописец, график, писатель. Участник выставок "Союза русских художников" и "Мира искусства". В конце 1910-х гг. создал свою теорию изобразительного пространства, так называемую сферическую, или наклонную, перспективу, служащую выражением планетарного взгляда на мир. Разработал также собственную концепцию портрета, стремясь выразить в модели не изменчивое и зыбкое, а постоянно пребывающее. Его портрет Ахматовой (1922), выполненный маслом и находящийся в Государственном Русском музее, М. Шагинян назвала "духовным портретом", "иконой". Известны два эскиза к портрету: один хранится в Государственном Литературном музее в Москве, другой - в частном собрании в Петербурге. вверх
40. Коган Нина Иосифовна (1889?-1942) - график, живописец. Между 1935 и 1941 гг. участвовала в выставках ленинградских художников. Иллюстрировала детские книги в Ленинградском отделении Детгиза, вместе с П.Митуричем принимала участие в иллюстрировании посмертного издания В. Хлебникова. Умерла в блокадном Ленинграде.
В начале 1930-х гг. Коган бывала в Фонтанном Доме, у Пунина и Ахматовой. 27 мая 1955 г. Л. Чуковская записала в дневнике: "Оказывается, она <Ахматова - О. Р.> была дружна с ленинградской художницей Ниной Коган <…>. (Я видела портрет Ахматовой работы Коган - интересный: самая суть ахматовской красоты.)" (Чуковская, т. 2, с. 127). В Каталоге - три силуэта тушью работы Коган (Ахматова, сидящая на камне), а также карандашный эскиз к этим силуэтам. Все работы относятся к 1930-м гг., две хранятся в Государственном Литературном музее в Москве, две (в том числе эскиз) - в частных собраниях в Петербурге. Один из портретов Ахматова упомянула в записной книжке: "Нина Коган (вроде силуэта). 30-ые годы (ученица Малевича). Ул. Марата (или Ф<онтанный> Дом)" (Записные книжки, с. 729). Какой именно портрет подразумевался в разговоре с Т. Венцловой, неизвестно, т.к. сам Т. Венцлова его не видел. вверх
41. Малевич Казимир Северинович (1878-1935) - живописец, теоретик искусства. Один из лидеров русского авангардизма 1910-1930-х гг. Основоположник супрематизма, автор манифеста "От кубизма к супрематизму" (1915). Сохранились письма Малевича к Пунину (см. Пунин). вверх
42. По словам Т. Венцловы, ""Франкфурт-на-Одере" означает просто, что эта часть Питера казалась Анне Андреевне похожей на третьесортный немецкий город". вверх
43. Пушкин, наряду с Шекспиром и Данте, был постоянным спутником Ахматовой. О нем - стихотворения "Смуглый отрок бродил по аллеям…" (1911), "Кавказское" (1927), "Пушкин" (1943) и др.; эпиграфы из Пушкина предпосланы многим ахматовским произведениям, в том числе "Поэме без героя". Пушкинский слой в творчестве Ахматовой - тема необъятная (из последних работ см.: Wells D. Akhmatova and Pushkin: The Pushkin Contexts of Akhmatova's Poetry. Birmingham, 1994. 138 p.). С середины 1920-х гг. начались "пушкинские штудии" Ахматовой, результатом которых явились статьи "Последняя сказка Пушкина" (Звезда, 1933, № 1), ""Каменный гость" Пушкина" (Пушкин. Исследования и материалы, т. II. М.-Л., 1958), "Гибель Пушкина" (ВЛ, 1973, № 3) и др. См. подготовленное Э. Герштейн издание О Пушкине, также Записные книжки, в которых сохранились наброски статей о Пушкине, планы неосуществленной книги о нем и т. д. ).
В МА хранятся подготовительные материалы к работам Ахматовой о Пушкине (Ф. 1, оп. 1, д. 143. Автограф черновой. Б/д. 7 лл), а также - издания сочинений Пушкина из библиотеки Ахматовой, в том числе - с ахматовскими рабочими пометами (инв. ОФ-2641, А-3758 и др.). Большая часть их была подарена Ахматовой Б. Томашевским. На шмуцтитуле первого тома подготовленного Томашевским трехтомника стихотворений Пушкина (Л., 1955) - дарственная надпись составителя: "Анне Андреевне Ахматовой лучшему знатоку Пушкина 30 ноября 1955 <подписи> Б.Томашевский. И.Медведева" (А-3755). вверх
44. Ср. в прозе о "Поэме без героя": "…и я уже слышу голос, предупреждающий меня, чтобы я не проваливалась в нее, как провалился Пастернак в "Живаго", что и стало его гибелью" (Ахматова 1996, т. 1, с. 353). вверх
45. Ср.: ""Второе рождение" заканчивает первый период лирики. Очевидно, дальше пути не было. (К тому же "грудная клетка", дамская доля и т.д.) Наступает долгий (10 лет) и мучительный антракт, когда он действительно не может написать ни строчки. Это уже у меня на глазах. Так и слышу его растерянную интонацию: "Что это со мной?!"" (Записные книжки, с. 128-129). вверх
46. Ср. дневниковую запись Л. Чуковской от 1 января 1962 г., сделанную после посещения Ахматовой в больнице: "Вы согласитесь, не правда ли, что сейчас в России необыкновенный подъем интереса к поэзии. Доскакала наша четверка: Пастернак, я, Цветаева, Мандельштам. Сюда ко мне прорвался семнадцатилетний мальчик, чтобы спросить, кто из четырех - лучший. Я ему ответила: "Все трое действительно первоклассные поэты. Радуйтесь такому богатству, а не бейте друг друга поэтами по голове"" (Чуковская, т. 2, с. 477-478. 1 января 1962 г.). вверх
47. ""Пластинками" она называла особый жанр устного рассказа, обкатанного на многих слушателях, с раз навсегда выверенными деталями, поворотами и острыми местами, и вместе с тем хранящего, в интонации, в соотнесенности с сиюминутными обстоятельствами, свою импровизационную первооснову" (Найман, с. 35). вверх
48. Шилейко Владимир (Вольдемар) Казимирович (1891-1930) - востоковед, поэт, переводчик. Ассириолог, специалист по древнейшим культурам Передней Азии. В анкете 1926 г. указано: "Знает около 40 языков". В 1915 г. вышла книга Шилейко "Вотивные надписи шумерийских правителей", получившая Большую серебряную медаль Российского археологического общества. С 1913 г. Шилейко - внештатный сотрудник, а в 1918 г. - ассистент Отдела древностей Эрмитажа; с 1918 г. - член Коллегии по делам музеев, член Археологической комиссии; с 1919 г. заведовал отделом археологии и искусства Древнего Востока Российской Академии истории материальной культуры, в которую был избран академиком, состоял профессором в Археологическом институте, преподавал в переводческой студии при издательстве "Всемирная литература"; с 1924 г. заведовал ассирийским подотделом Отдела классического Востока в Музее изящных искусств в Москве; с 1927 г. по 1929 г. - профессор археологического отделения факультета общественных наук Ленинградского университета (читал курсы аккадского, шумерского и - впервые в России - хеттского языков). Многие работы Шилейко до сих пор не опубликованы. Среди них - том ассиро-вавилонского эпоса, подготовленный к печати в 1920 г. Утеряны рукописи переводов ассиро-вавилонского эпоса "Гильгамеш" (сохранились фрагменты) и древневавилонской поэмы "Энyма элиш", а также архив Шилейко в Эрмитаже. Однако, по словам Вяч. Вс. Иванова, "и то, что сохранилось, дает представление о громадном научном диапазоне В.К.Шилейко. Слова, определяющие размер дарования гения, - затасканные, их часто употребляют не по назначению. В случае Шилейко никакое другое не может верно обозначить ту глубину научного и поэтического чутья, проникающего в суть текстов, иной раз до сих пор остававшихся бы загадочными, когда б не ясность прозрений Шилейко, их изучавшего" (Иванов Вяч.Вс. Одетый одеждою крыльев // Шилейко В.К. Через время (стихи, переводы, мистерия). М., 1994. С. 17-18).
При жизни Шилейко не выпустил ни одного поэтического сборника, печатался только в журналах. Лишь в 1990-е гг. стали выходить книги его стихов (см.: Шилейко В. Пометки на полях. СПб, 1999. 160 с.). О В.Шилейко см.: Грибов Р.А. Из истории русской ассириологии. В.К.Шилейко (1891-1930) // Очерки по истории Ленинградского университета. II. - Л., 1968. - С. 94-99; Топоров В.Н. Две главы из истории русской поэзии начала века: I. В.А.Комаровский - II. В.К.Шилейко (К соотношению поэтики символизма и акмеизма) // Russian Literature. - 1979. - Vol. 7, № 3. - С. 249-325; Шилейко Т. И. Легенды, мифы и стили... // Новый мир, 1986, № 4.
С Ахматовой Шилейко был знаком с начала 1910-х гг.: он был тесно связан с "Цехом поэтов", дружил с Н. Гумилевым и М. Лозинским, был одним из завсегдатаев "Бродячей собаки". Брак Ахматовой и Шилейко длился с 1918 по 1920 г., хотя до 1926 г. они периодически жили под одной крышей (с осени 1918 г. по осень 1920 г. - в северном садовом флигеле Фонтанного Дома; см.: Попова Н.И., Рубинчик О.Е. Анна Ахматова и Фонтанный Дом. СПб, 2000. С. 11-40). Дружеские отношения Ахматовой и Шилейко продолжались до самой смерти Владимира Казимировича. К Шилейко обращены стихотворения "Косноязычно славивший меня…" (1913), на которое Шилейко ответил стихотворением "Метеорит" ("Есть вера духа, жадная, простая…"); "Тебе покорной? Ты сошел с ума!.." (1921) и др. Шилейко посвятил Ахматовой ряд стихотворений, в том числе - "Муза" (1914), "Уста Любви истомлены…" (1914), "Живу томительно и трудно…" (1916), "Стансы госпоже***" ("Над мраком смерти обоюдной…", 1917); последнее стихотворение Ахматова пыталась восстановить по памяти (см. Записные книжки, с. 583-584). Сохранились письма Ахматовой к Шилейко 1920-х гг. (Ахматова 1996, т. 2, с. 192-198). Влияние Шилейко сказалось также в заглавии ташкентской пьесы Ахматовой - "Энума элиш", что в переводе с древневавилонского означает "Когда вверху" (см. примеч. 51, с. 217). вверх
49. "На Рождество 1914 провожала Ник<олая> Ст<епановича> на фронт до Вильны. Там ночевали в гостинице, и утром я увидела в окно, как молящиеся на коленях двигались к церкви, где икона Остробрамской Божьей Матери" (Записные книжки, с. 665). вверх
50. Текст стихотворения О. Мандельштама "Все чуждо нам в столице непотребной…" (1918), вероятно, хранился в архиве А. Габричевского (см.: Мандельштам О. Э. Полное собрание стихотворений. СПб., 1995. С. 651). Стихотворение есть в записной книжке Ахматовой (Записные книжки, с. 433-434). вверх
51. Речь идет о пьесе "Энума элиш", написанной в Ташкенте и восстанавливаемой, а по сути, заново создаваемой в 1960-е гг.: "Пьеса "Энумаелиш", состоящая из трех частей: 1) На лестнице 2) Пролог 3) Под лестницей. Писалась в Ташкенте после тифа (1942 г.), окончена на Пасху 1943. (Читала Козловским, Асе, Булгаковой, Раневской, А.Н.Тихонову, Адмони) Сожгла 11 июня 1944 в Фонтанном Доме"; "Теперь она вздумала возвращаться ко мне" (Записные книжки, c. 229, 238). В 1960-е гг. Ахматова зачастую стала называть всю пьесу "Прологом". В 1964 г. она получила предложение от Дюссельдорфского театра о постановке драмы на сцене (см. Ахматова 1996, т. 2, с. 386) и начала отбирать материал в отдельный конверт с надписью "Пролог, или Сон во сне". Однако пьеса не была завершена, и постановка не состоялась (ср. запись от 19 октября 1965 г.: "Опять требования "Пролога" из ФРГ. Что за напасть!"; Записные книжки, с. 679). Ахматова придавала большое значение работе над "Энума элиш" ("Прологом"): "Последние три дня счастливейшие в моей жизни, потому что нашла решение пьесы, думала только об этом" (Записные книжки, с. 420). вверх
52. Ср.: "Гумилев - поэт еще не прочитанный. Визионер и пророк. Он предсказал свою смерть с подробностями вплоть до осенней травы"; "По моему глубокому убеждению, Г<умиле>в - поэт, еще не прочитанный и по какому-то странному недоразум<ению> оставшийся автором "Капитанов" (1909 г.), которых он сам, к слову сказать, - ненавидел" (Записные книжки, с. 251, 640; см. также Записные книжки, с. 393, 486, 625). вверх
53. Ср.: "Два поэта породили целые полчища учеников - Гумилев и Мандельштам. Первый сразу после своей см<ерти>, в двадцатых годах (Тихонов, Шенгели, Багрицкий), им бредила вся литературная южная Россия, второй сейчас (1961), им бредит почти вся начинающая молодежь Москвы и Ленинграда" (Записные книжки, с. 139). вверх
54. Статья А. Блока "Без божества, без вдохновенья" (1921), содержавшая негативную оценку акмеизма, была опубликована в сборнике "Современная литература" (Л., 1925). Резко критикуя Гумилева и Городецкого, Блок отмечает: "Настоящим исключением среди них была одна Анна Ахматова" (Блок А. А. Собрание сочинений: В 8?? т. Т. 6. М.; Л., 1962. С. 180. вверх
55. Анстей (Штейнберг, по первому браку - Матвеева, по второму - Филиппова) Ольга Николаевна (1912-1985) - поэтесса, переводчица. В 1937 г. вышла замуж за поэта, драматурга, переводчика Елагина (Матвеева) Ивана Венедиктовича (1918-1987), сына поэта-футуриста Венедикта Марта (В. Матвеева). В Советском Союзе стихи Анстей и Елагина не печатали. Отец Ивана Елагина не раз подвергался арестам, в 1938 г. был расстрелян. В 1943 г., воспользовавшись полунемецким происхождением Анстей, Иван Венедиктович и Ольга Николаевна выехали на Запад. Жили в Чехословакии, Польше, Германии, с 1950 г. - в США. Несмотря на то, что брак распался, их дружба сохранялась до самой смерти Ольги Николаевны. В 1951-1972 гг. Анстей работала в ООН: сначала секретарем, затем переводчицей с английского и французского языков. Много лет была псаломщиком при Св. Серафимовском храме в Нью-Йорке. Елагин учился в Нью-Йоркском университете, после получения докторской степени стал профессором Питтсбургского университета. За рубежом вышли многочисленные сборники лирики и поэм И.Елагина и два сборника стихов О. Анстей: "Дверь в стене" (Мюнхен, 1949), в который вошла поэма "Кирилловские яры" о трагедии Бабьего Яра, написанная в Киеве в 1943 г., и "На юру" (Питтсбург, 1976).
В дневнике Ахматовой сохранилась библиографическая ссылка: "Астей О. <так в тексте Записных книжек. - О. Р.> Новое русское слово. США. Нью-Йорк. Дек<абрь> 1963. "Черный год"" (Записные книжки, с. 452). Статья посвящена выходу в Мюнхене ахматовского "Реквиема": "…до нас дошел голос величайшего из живущих русских поэтов. А. говорит о черном годе. И каждое слово ударяет, как колокол". В статье описан визит Елагина к Ахматовой в 1939 г.: "Солнечным августовским ленинградским днем к А. пришел черненький застенчивый юноша, почти мальчик. Он почти не дышал от благоговения и страха и мял в руках тетрадку. В тетрадке были стихи. Чтобы прочесть их, мальчик приехал из Киева. Звали его Иван Елагин.
- Мне очень жалко, - сказала ему А., - но я не могу вас выслушать. Сына завтра увозят, и я собираю теплые вещи.
Мальчик молча поцеловал ей руку и ушел".
См. также статью Анстей "Златоустая Анна всея Руси" // "Новый журнал", 1977, № 127, с. 96.
Эта встреча отражена и в автобиографической поэме Елагина "Память" (1979): "Я уже предчувствую беду. / "Высылают сына. Я иду / С передачею в тюрьму. Я вас / Не могу принять". / У нас сейчас / "Реквием" об этих страшных днях. / "Реквием" тогда в ее глазах / Я увидел. Кто-нибудь найдет / Со стихами старыми блокнот" (Елагин И.В. Сочинения: В 2-х тт. Т. 2. М., 1998. С. 211-212). В стихотворении "У вод Мононгахилы" также упоминается Ахматова: "Хотя я врозь с Россией, / Врозь со своей страной, / Но розы ледяные / Ахматовой - со мной" (Елагин И. В. Указ. изд., т. 2, с. 79). вверх
56. Иван Алексеевич Бунин получил Нобелевскую премию по литературе в 1933 г., Альбер Камю - в 1957 г. вверх
57. Прокофьев Александр Андреевич (1900-1971) - поэт. В 1918 г. вступил в волостной комитет сочувствующих большевикам. В 1919 г. воевал на фронте против армии генерала Юденича. В 1920 г. окончил Учительский институт Красной Армии, стал политработником. С 1921 по 1922 г. - военный цензор. В 1923 г. занимался в Пролеткульте, овладевая поэтической техникой. С 1922 по 1930 г. - сотрудник полномочного представительства ВЧК - ОГПУ в Ленинградском военном округе. Затем работал в газетах и на радио. В годы Великой Отечественной войны - военный корреспондент. В 1945-1948 гг. и 1955-1965 гг. - Первый секретарь Правления Ленинградской писательской организации. За поэму "Россия" (1943-1944) Прокофьев получил Сталинскую премию (1946), за книгу "Приглашение к путешествию" (1960) - Ленинскую премию (1961). Прокофьев - автор детских книг. Переводил произведения украинских и белорусских поэтов.
Упомянутый разговор Твардовского с Прокофьевым пересказан в дневниковой записи Л. Чуковской от 22 апреля 1964 г. (Чуковская, т. 3, с. 206). Ахматовой в течение многих лет нередко приходилось иметь дело с Прокофьевым - как с "начальством" по Союзу писателей. Прокофьев относился к ней не без уважения и периодически помогал: "Вскоре после знаменитого постановления о журналах "Звезда" и "Ленинград" Ахматова позвонила Александру Прокофьеву:
- Александр Андреевич, ко мне пришел какой-то рабочий с ордером на мою квартиру.
- Анна Андреевна, - сказал Прокофьев, - запритесь и никому не открывайте, пока я не позвоню вам!
Два или три дня Прокофьев бегал по Смольному. Ордер аннулировали" (Анна Ахматова и Союз писателей. Публикация, вступительные заметки и заключение Владимира Бахтина // Звезда. 1996. № 8. С. 237). В.Бахтин вспоминает также, что в начале 1960-х гг. Прокофьев выхлопотал для Ахматовой повышение пенсии (там же, с. 232).
Н.Готхарт записал отзыв Ахматовой о Прокофьеве: "Александр Прокофьев был талантлив. Стал придворным поэтом. Глубоко трагическая судьба. Сейчас из него льются стихи, как из водопровода" (Готхарт Н. Двенадцать встреч с Анной Ахматовой // Вопросы литературы. 1997. № 2. С. 273). В записной книжке Ахматовой есть помета: "В библиографию. Прокофьев Ал<ександр>. "Неделя". Январь 1965 (о премии и Оксф<орде>)" (Записные книжки, с. 506). Ссылка неточна; вероятно, подразумевается доклад Прокофьева на отчетно-выборном собрании писательской организации Ленинграда 14 января 1965 г.: "Анне Андреевне Ахматовой, Михаилу Павловичу Алексееву присуждены почетные звания докторов Оксфордского университета. В Италии Ахматовой была вручена международная премия" (Прокофьев А. Наше слово должно быть словом пристрастных! // Литературная Россия. 1965. № 3 (107). 15 января. С. 7). вверх
58. О стихотворении Бродского "Закричат и захлопочут петухи…" см. примеч. № 63 на с. 130-131. вверх
59. Стихотворение Бродского "В одиночке при ходьбе плечо…" (1964) входит в цикл "Инструкция заключенному" (Бродский И. Сочинения. В 7 тт. Т. II. СПб., 1997. С. 23). вверх
60. Ср.: "Анна Андреевна считала, что имеет место как бы второй Серебряный век" (Волков, с. 226).
Условно в числе "поэтов круга Бродского" можно назвать и Т. Венцлову, пишущего стихи по-литовски. В заметке, посвященной 40-летию Бродского, Венцлова говорит: "Стихи Бродского для меня давно уже не просто поэтический, а жизненный факт. Дело не только в том, что я часто, сам того не замечая, объясняюсь цитатами из Бродского. Я привык смотреть на его стихи как на часть того шифра, который мне посылает жизнь - скажем, впервые увиденный город. Этот шифр по мере разгадки направляет мои поступки и меняет мое внутреннее пространство" (Развитие семантической поэтики. Интервью с Томасом Венцловой 15 декабря 1990, Нью-Хейвен // Полухина В. Бродский глазами современников. СПб, 1997. С. 277). Сам Бродский в стихотворении "Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова" (1973) писал: "Мы похожи; / мы, в сущности, Томас, одно…" (Бродский И. Сочинения. Т. II. СПб., 1992. С. 325). Венцлове посвящены стихи Бродского "Открытка из города К." (1968) и "Литовский дивертисмент" (1971; см. также предисловие Бродского к книге стихов Венцловы на польском языке "Разговор с зимой" (Париж, 1989); русская версия этого предисловия: Бродский И. Поэзия как форма сопротивления реальности // Русская мысль. 1990. № 3829. 25 мая. Приложение "Иосиф Бродский и его современники". C. I, XII). Венцлова, в свою очередь, посвятил Бродскому стихотворение "Щит Ахиллеса". Бродский и Венцлова переводили стихи друг друга. При этом Венцлова утверждает: "В целом, я думаю, у нас мало общего, если не считать некоторых совпадений в области вкуса, поэтических притяжений, а точнее - поэтических отталкиваний" (Развитие семантической поэтики, с. 266-267). вверх
61. Об интересе Ахматовой к американскому писателю Уильяму Фолкнеру (1897-1962) свидетельствуют дневниковые записи Л. Чуковской от 21 апреля 1958 г. и 16 ноября 1962 г. (Чуковская, т. 2, с. 303, 550). Ахматовское внимание привлекли следующие строки в статье Р.Орловой и Л. Копелева "Мифы и правда американского Юга (Заметки о творчестве Фолкнера)": "Он дает читателю не только зрелые плоды своего творчества, но словно раскрывает перед ним самый процесс творения, "процесс производства": склады беспорядочно нагроможденного сырья и весь ход черновой обработки, показывает и собственно "технологические процессы", весь путь превращения "заготовки" в пластический образ и возникающие при этом отходы и мусор" (ИЛ. 1958. № 3. С. 218). Чуковская приводит слова Ахматовой: "Вот и у вас <в повести Чуковской "Спуск под воду". - О. Р.> об этом же идет речь, - сказала она. - И у меня в "Решке". Творчество как предмет изображения" (Чуковская, т. 2, с. 303. 21 апреля 1958). вверх
62. Вяч. Вс. Иванов приводит свой разговор с Ахматовой, состоявшийся 16 марта 1964 г.: "Согласилась она и с тем, что Аполлинер - последний французский поэт, "с кем можно жить". И продолжает: "Я думаю, это оттого, что язык склеротизированный, невозможны инверсии. Все сказано, пересказано на все лады. А поэзия этого не любит"" (Иванов Вяч. Вс. Беседы с Анной Ахматовой // Воспоминания, с. 490). Ср.: "В другой раз, когда разговор зашел о современной французской поэзии, она сказала: "Я знаю, что Аполлинер - последний поэт, не надо меня в этом убеждать". Возможно - "последний европейский", но в сознании осталось "последний вообще"" (Найман, с. 43). "Как-то в конце января или в начале февраля 1959 года А. А. позвонила мне и спросила, нет ли у меня стихов Гийома Аполлинера, французского поэта, с которым она встречалась в Париже в годы накануне первой мировой войны…" (Рыкова Н. Я."Месяца бесформенный осколок…" // Об Анне Ахматовой, с. 179). вверх
63. Ср. в воспоминаниях А. Наймана: "Возвратившись, показывала фотографии: церемония на Сицилии, дворец, большой стол, много людей; на заднем плане - античный бюст с довольно живым - и насмешливым - выражением лица. Она комментировала: "Видите, он говорит: "Эвтерпу - знаю. Сафо - знаю. Ахматова? - первый раз слышу". Сопоставление имен было существеннее самоиронии" (Найман, с. 160); см. также: Пунина И. Н. Анна Ахматова на Сицилии // Воспоминания, с. 668. вверх
64. Ср.: "В Риме есть что-то даже кощунственное. Это словно состязание людей с Богом. Очень страшно! (Или Бога с Сатаной-Денницей.)" (Записные книжки, с. 582). вверх
65. Сохранилась ахматовская запись об этой поездке, состоявшейся в сентябре 1964 г.: "Вчера совершенно неожиданно для себя была в Выборге.
Поехала кататься с друзьями Толи. Дорога. Озера. Скорость. <…> Ехала непременно мимо Валиной могилы. О, Боже! 120 км. в час.
5-ое, ночь.
Тот, кто вел машину свалился в инфаркте. <…> Он уже у Бехтерева" (Записные книжки, с. 487-488). Ср. рассказ А.Наймана: "Меня навестил московский приятель, который проезжал на автомобиле через Ленинград. Я предложил Ахматовой прокатиться. Мы выбрали красивую дорогу, соединявшую Приморское и Выборгское шоссе, и, не торопясь, ехали по ней. Внезапно кому-то в голову пришла мысль отправиться в Выборг. Она согласилась, и началась головоломная гонка, потому что к ней вскоре должен был прийти гость, а до Выборга было больше 120 километров. Со скоростью 100 и быстрее мы примчались в Выборг, покрутились возле парка и причала, не выходя из машины, съели по эскимо и так же стремительно вернулись. Она сказала только: "Срeдней силы населенный пункт…" Через несколько дней Ладыженская, навестив Ахматову, рассказала, что она съездила в Выборг, как там было прекрасно и какое впечатление на нее произвел гранитный монолит, ступенями уходящий под воду. Ахматова посмотрела на меня с притворной сокрушенностью и обидой и сообщила гостье, что мы ничего такого там не заметили. Через день, если не на следующий, ею были написаны стихи "Огромная подводная ступень" и так далее, с посвящением Ладыженской" (Найман, с. 257-258). Стихотворение "В Выборге" ("Огромная подводная ступень…") датировано 24 сентября 1964 г. вверх
66. Стенич (Файнберг, во втором браке - Большинцова) Любовь Давыдовна (1908-1983) - переводчица. Переводила пьесы М.Метерлинка, Ж.П.Сартра, Ж.Ануя, Б.Брехта и др. Жена стиховеда и переводчика В.О.Стенича, расстрелянного в 1938 г., затем - кинодраматурга М.В.Большинцова.
Л.Стенич-Большинцова - подруга Ахматовой. Они познакомились в начале 1930-х гг., а особенно сблизились в 1960-е гг. Ахматова не раз жила у Стенич в Москве, в Сокольниках. Стенич-Большинцова была причастна к публикации за границей произведений Ахматовой, Мандельштама, Бродского. По свидетельству ее племянницы Марии Вениаминовны Бутрим, рукописи передавались через приятельницу Любови Давыдовны Евгению Клебанову, которая жила в США и в начале 1960-х гг. приезжала в Россию.
У племянника Стенич, Д.Файнберга, сохранились дневниковые записи об Ахматовой, пока не опубликованные. В МА есть копия этих записей, а также аудиокассета с воспоминаниями Д.Файнберга и М.Бутрим о Стенич и Ахматовой. О Стенич см.: Найман 1999, с. 94-96, 98. вверх
Источник: http://www.akhmatova.org/articles/ventslova.htm
Биография Бродского, часть 1 Биография Бродского, часть 2 Биография Бродского, часть 3
Cтраницы в Интернете о поэтах и их творчестве, созданные этим разработчиком: [ Музей Иосифа Бродского в Интернете ] [ Музей Арсения Тарковского в Интернете ] [ Музей Вильгельма Левика в Интернете ] [ Музей Аркадия Штейнберга в Интернете ] [ Поэт и переводчик Семен Липкин ] [ Поэт и переводчик Александр Ревич ] [ Поэт Григорий Корин ] [ Поэт Владимир Мощенко ] [ Поэтесса Любовь Якушева ]
Требуйте в библиотеках наши деловые, компьютерные и литературные журналы: [ СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ] [ МАРКЕТИНГ УСПЕХА ] [ ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА ] [ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ ] [ НОУ-ХАУ БИЗНЕСА ] [ БИЗНЕС-КОМАНДА И ЕЕ ЛИДЕР ] [ КОМПЬЮТЕРЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ] [ КОМПЬЮТЕРНАЯ ХРОНИКА ] [ ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ] [ БИЗНЕС.ПРИБЫЛЬ.ПРАВО ] [ БЫСТРАЯ ПРОДАЖА ] [ РЫНОК.ФИНАНСЫ.КООПЕРАЦИЯ ] [ СЕКРЕТНЫЕ РЕЦЕПТЫ МИЛЛИОНЕРОВ ] [ УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕМ ] [ АНТОЛОГИЯ МИРОВОЙ ПОЭЗИИ ]
ООО "Интерсоциоинформ"