Берлин, 29-го нов<ого> июня 1922 г.
Дорогой Борис Леонидович!
Пишу Вам среди трезвого белого дня, переборов соблазн ночного часа и первого разбега.
Я дала Вашему письму остыть в себе, погрестись в щебне двух дней, — что уцелеет? [Письмо Б. Пастернака, которое Цветаева получила через И. Эренбурга.]
И вот, из-под щебня:
Первое, что я почувствовала — пробегом взгляда: спор. Кто-то спорит, кто-то призывает к ответу: кому-то не заплатила. — Сердце сжалось от безнадежности, от ненужности. — (Я тогда не прочла еще ни одного слова.)
Читаю (все еще не понимая — кто) и первое, что сквозь незнакомый разгон руки доходит: отброшен. (И — мое: несносное: “Ну да, кто-то недоволен, возмущен! О, Господи! Чем я виновата, что он прочел мои стихи!) — Только к концу 2-ой стр<аницы>, при имени Татьяны Федоровны Скрябиной, как удар: Пастернак!
Теперь слушайте:
Когда-то (в 1918 г., весной) мы с Вами сидели рядом за ужином у Цейтлинов. Вы сказали: “Я хочу написать большой роман: с любовью, с героиней — как Бальзак”. И я подумала: “Как хорошо. Как точно. Как вне самолюбия. — Поэт”.
Потом я Вас пригласила: “Буду рада, если” — Вы не пришли, потому что ничего нового в жизни не хочется.
_______
Зимой 1919 г. встреча на Моховой. Вы несли продавать Соловьева (?) — “потому что в доме совсем нет хлеба”. — “А сколько у Вас выходит хлеба в день?” — “5 фунтов”. — “А у меня 3”. — “Пишете?” — “Да (или нет, не важно)”. — “Прощайте”. — “Прощайте”.
(Книги. — Хлеб. — Человек.)
________
Зимой 1920 г., перед отъездом Эренбурга, в Союзе писателей читаю Царь-Девицу, со всей робостью: 1) рваных валенок, 2) русской своей речи, 3) явно-большой рукописи. Недоуменный вопрос — на круговую: “Господа, фабула ясна?” И одобряющее хоровое: “Совсем нет. Доходят отдельные строчки”.
Потом — уже ухожу — Ваш оклик: “М<арина> И<вановна>!” — “Ах, Вы здесь? Как я рада!” — “Фабула ясна, дело в том, что Вы даете ее разъединение, отдельными взрывами, в прерванности”...
И мое молчаливое: Зoрок. — Поэт.
_______
Осень 1921 г. Моя трущоба в Борисоглебском переулке. Вы в дверях. Письмо от И<льи> Г<ригорьевича>. Перебарывая первую жадность, заглушая радость ропотом слов (письмо так и лежит нераспечатанным) — расспросы: — “Как живете? Пишете ли? Чтo — сейчас — Москва?” И Ваше — как глухо! — “Река... Паром... Берега ли ко мне, я ли к берегу... А может быть и берегов нет... А может быть и — ”
И я, мысленно: Косноязычие большого. — Темнoты.
_______
11-го (по-старому) апреля 1922 г. — Похороны Т. Ф. Скрябиной. Я была с ней в дружбе 2 года подряд, — ее единственным женским другом за жизнь. Дружба суровая: вся на деле и в беседе, мужская, вне нежности земных примет.
И вот провожаю ее большие глаза в землю.
Иду с Коганом [П. С. Коган.], потом еще с каким-то, и вдруг — рука на рукав — как лапа: Вы. — Я об этом тогда писала Эренбургу. Говорили о нем, я просила Вас писать ему, говорила о его безмерной любви к Вам, Вы принимали недоуменно, даже с тяжестью:
“Совсем не понимаю за что... Как трудно...” (Мне было больно за И<лью> Г<ригорьевича>, и этого я ему не писала.) — “Я прочла Ваши стихи про голод...” [Стихотворение “Голод” (1922).] — “Не говорите. Это позор. Я совсем другого хотел. Но знаете — бывает так: над головой — сонмами, а посмотришь: белая бумага. Проплыло. Не коснулось стола. А это я написал в последнюю минуту: пристают, звонят, номер не выйдет...”
Потом рассказывали об Ахматовой. Я спросила об основной ее земной примете. И Вы, оглядываясь:
— Чистота внимания. Она напоминает мне сестру.
Потом Вы меня хвалили (“хотя этого говорить в лицо не нужно”) за то, что я эти годы все-таки писала, — ах, главное я и забыла! — “Знаете, кому очень понравилась Ваша книга? — Маяковскому” [Пастернак читал первое издание книги стихов “Версты”, вышедшей двумя изданиями в московском издательстве “Костры”, появившееся в феврале 1922 г. ].
Это была большая радость: дар всей чужести, побежденные пространства (времена?)
Я — правда — просияла внутри.
_______
И гроб: белый, без венков. И — уже вблизи — успокаивающая арка Девичьего монастыря: благость.
И Вы... “Я не с ними, это ошибка, знаете: отдаете стихи в какие-то сборники...”
Теперь самое главное: стоим у могилы. Руки на рукаве уже нет. Чувствую — как всегда в первую секундочку после расставания — что Вы рядом, отступив на шаг.
Задумываюсь о Т<атьяне> Ф<едоровне> — Ее последний земной воздух. — И — толчком: чувство прерванности, не додумываю, ибо занята Т<атьяной> Ф<едоровной> — допроводить ее!
И, когда оглядываюсь, Вас уже нет: исчезновение.
Это мое последнее видение Вас. Ровно через месяц — день в день — я уехала. Хотела зайти, чтобы обрадовать Э<ренбур>га живым рассказом о Вас, но чувство, что: чужой дом — наверно, не застану и т. д.
Мне даже стыдно было потом перед Эренбургом за такое слабое рвение во дружбе.
_______
Вот, дорогой Борис Леонидович, моя “история с Вами”, — тоже в прерванности.
Стихи Ваши я знаю мало: раз слышала Вас с эстрады. Вы тогда сплошь забывали, книги Вашей не видела.
То, что мне говорил Эренбург — ударяло сразу, захлестывало:
дребезгом, щебетом, всем сразу: как Жизнь.
Бег по кругу, но круг — мир (вселенная!). И Вы — в самом начале, и никогда не кончите, ибо смертны.
Все только намечено — остриями! — и, не дав опомниться — дальше. Поэзия умыслов — согласны?
Это я говорю по тем 5, 6-ти стихотворениям, которые знаю.
______
Скоро выйдет моя книга “Ремесло” [Цветаева послала Пастернаку экземпляр этой книги с таким автографом: “Моему заочному другу — заоблачному брату — Борису Пастернаку”], — стихи за последние полтора года. Пришлю Вам с радостью. А пока посылаю две крохотные книжечки, вышедшие здесь без меня — просто чтобы окупить дорогу: “Стихи к Блоку” и “Разлука” [На книге “Разлука” Цветаева написала: “Борису Пастернаку — навстречу!”].
Я в Берлине надолго, хотела ехать в Прагу, но там очень трудна внешняя жизнь [Цветаева уехала из Берлина в Прагу 31 июля 1922 г.].
Здесь ни с кем не дружу, кроме Эренбургов, Белого и моего издателя Геликона [Прозвище А. Г. Вишняка.].
Напишите, как дела с отъездом: по-настоящему (во внешнем ли мире: виз, анкет, миллиардов) — едете [Пастернак собирался отправиться с женой в Берлин в середине августа 1922 г.] Здесь очень хорошо жить: не город (тот или иной) — Безымянность — просторы! Можно совсем без людей. Немножко как на том свете. Жму Вашу руку. — Жду Вашей книги [Книгу стихов “Сестра моя — жизнь” с дарственной надписью “Марине Цветаевой. Б. Пастернак. 14.VI.22. Москва” Цветаева получила чуть позднее.] и Вас.
МЦ.
Мой адрес: Berlin — Wilmersdorf, Trautenaustrasse, 9, Pension “Trautenau-Haus”.
Мокропсы, 19-го нов<ого> ноября 1922 г.
[Ответ на письмо Б. Пастернака от 12 ноября 1922 г., посланное из Берлина]
Мой дорогой Пастернак!
Мой любимый вид общения — потусторонний: сон: видеть во сне.
А второе — переписка. Письмо, как некий вид потустороннего общения, менее совершенно, нежели сон, но законы те же.
Ни то, ни другое — не по заказу: снится и пишется не когда нам хочется, а когда хочется: письму — быть написанным, сну — быть увиденным. (Мои письма всегда хотят быть написанными!)
Поэтому, — с самого начала: никогда не грызите себя (хотя бы самым легким грызением!), если не ответите, и ни о какой благодарности не говорите, всякое большое чувство — самоцель.
Ваше письмо я получила нынче в 61/2 час<ов> утра, и вот в какой сон Вы попали. — Дарю Вам его. — Я иду по каким-то узким мосткам. — Константинополь. — За мной — девочка в длинном платье, маленькая. Я знаю, что она не отстанет и что ведет — она. Но так как она маленькая — она не поспевает, и я беру ее на руки: через мою левую руку — полосатый шелковый поток: платье.
Лесенка: подымаемся. (Я, во сне: хорошая примета, а девочка — диво, дивиться.) Полосатые койки на сваях, внизу — черная вода. Девочка с бешеными глазами, но зла мне не сделает. Она меня любит, хотя послана не за тем. И я, во сне: “Укрощаю кротостью!”
И — Ваше письмо. Мне привез его муж из Свободарни (русское студенческое общежитие в Праге). Они вчера справляли годовщину — ночь напролет — и муж приехал с первым утренним поездом.
И то письмо я получила так. Раз — случайность, два — подозрение на закон.
_______
У Вас прекрасный почерк: гоните версту! И версты — и гривы — и полозья! И вдруг — охлест вожжи!
Сломя голову — и головы не ломает!
Прекрасный, значительный, мужественный почерк. Сразу веришь.
Вашего письма я сначала не поняла: радость и сон затмевали, ни слова! (Кстати, для меня слово — передача голоса, отнюдь не мысли, умысла!) Но голос слышала, потом рассвели (рассвет) слова, связь. Я все поняла.
Знаете, что осталось в памяти? Ледяной откос — почти отвес — под заревом (Ваше бессмертие!) — и голова в руках, — уроненная.
Теперь слушайте очень внимательно: я знала очень многих поэтов, встречала, сидела, говорила, и, расставаясь, более или менее знала (догадывалась) — жизнь каждого из них, когда меня нет. Ну, пишет, ну, ходит, ну (в Москве) идет за пайком, ну, (в Берлине) идет в кафе и т. д.
А с Вами — удивительная вещь: я не мыслю себе Вашего дня. (А сколько Вы их прожили — и каждый жили, час за часом!) Вы у меня в жизни не умещаетесь, очевидно — простите за смелость! — Вы в ней не <варианты: 1. Вы не в ней 2. Вы в ней> живете. Вас нужно искать, следить где-то еще. И не потому, что Вы — поэт и “ирреальны”, и Белый поэт, и Белый “ирреален”, — нет: не перекликается ли это с тем, что Вы пишете о дельтах, о прерывности Вашего бытия. Это, очевидно, настолько сильно, что я, не зная, перенесла это на быт. Вы точно вместо себя посылаете в жизнь свою тень, давая ей все полномочия.
_______
“Слова на сон” [Первоначальное название стихотворения “Неподражаемо лжет жизнь...”, записанного в конце своей книги стихов “Разлука”, посланной в дар Пастернаку]. Тогда было лето, и у меня был свой балкон в Берлине. Камень, жара, Ваша зеленая книга на коленях. (Сидела на полу.) — Я тогда десять дней жила ею, — как на высоком гребне волны: поддалась (послушалась) и не захлебнулась, хватило дыхания ровно на то восьмистишие, которое — я так счастлива — Вам понравилось.
От одной строки у меня до сих пор падает сердце.
________
Я не люблю встреч в жизни: сшибаются лбом. Две стены. Так не проникнешь. Встреча должна быть аркой: тогда встреча — над. — Закинутые лбы!
Но сейчас расстаются на слишком долго, поэтому хочу — ясно и трезво: на сколько приехали, когда едете. Не скрою, что рада была бы посидеть с Вами где-нибудь в Богом забытом (вспомянутом) захудалом кафе, в дождь. — Локоть и лоб. — Рада была бы и увидеть Маяковского. Он, очевидно, ведет себя ужасно — и я была бы в труднейшем положении в Берлине. — Может быть, и буду.
Как встретились с Эренбургом? Мы с ним раздружились, но я его нежно люблю и, памятуя его великую любовь к Вам, хотела бы, чтобы встреча была хорошая.
Лучшее мое воспоминание из жизни в Берлине (два месяца) — это Ваша книга и Белый. С Белым я, будучи знакома почти с детства, по-настоящему подружилась только этим летом. Он жил, как дух: ел овсянку, которую ему подавала хозяйка, и уходил в поля. Там он мне однажды, на закате, чудно рассказывал про Блока. — Так это у меня и осталось. — Жил он, кстати, в поселке гробовщиков и, не зная этого, невинно удивлялся: почему все мужчины в цилиндрах, а все дамы с венками на животах и в черных перчатках.
_______
Я живу в Чехии (близ Праги), в Мокропсах, в деревенской хате. Последний дом в деревне. Под горой ручей — таскаю воду. Треть дня уходит на топку огромной кафельной печки. Жизнь мало чем отличается от московской, бытовая ее часть, — пожалуй, даже бедней! — но к стихам прибавилось: семья и природа. Месяцами никого не вижу. Все утро пишу и хожу: здесь чудные горы.
Возьмите у Геликона (Вишняка) стихи, присланные в “Эпопею”, это и есть моя жизнь [В № 2 журнала “Эпопея” за 1922 г. напечатан цикл “Отрок” из четырех стихотворений, посвященный “Геликону”].
А Вам на прощание хочу переписать мой любимый стих, — тоже недавний, в Чехии:
Это пеплы сокровищ:
Утрат, обид.
Это пеплы, пред коими
В прах — гранит.
Голубь голый и светлый,
Не живущий четой.
Соломоновы пеплы
Над великой тщетой.
Беззакатного времени
Грозный мел.
Значит, Бог в мои двери —
Раз дом сгорел!
Не удушенный в хламе,
Снам и дням господин,
Как отвесное пламя
Дух — из ранних седин!
И не вы меня предали,
Годы, в тыл!
Эта седость — победа
Бессмертных сил.
_______
Была бы счастлива, если бы прислали новые стихи. Для меня все — новые: знаю только “Сестру мою жизнь”.
А то, что Вы пишете о некоторых совпадениях, соответствиях, догадках — Господи, да ведь это же — не сшибание лбом! Мой лоб, когда я писала о Вас, был закинут, — и, естественно, что я Вас увидела.
МЦ.
Пастернак, у меня есть к Вам просьба: подарите мне на Рождество Библию: немецкую, непременно готическим шрифтом, не большую, но и не карманную: естественную. И надпишите. Тщетно вот уже четыре месяца выпрашиваю у Геликона!
Буду возить ее с собой всю жизнь!
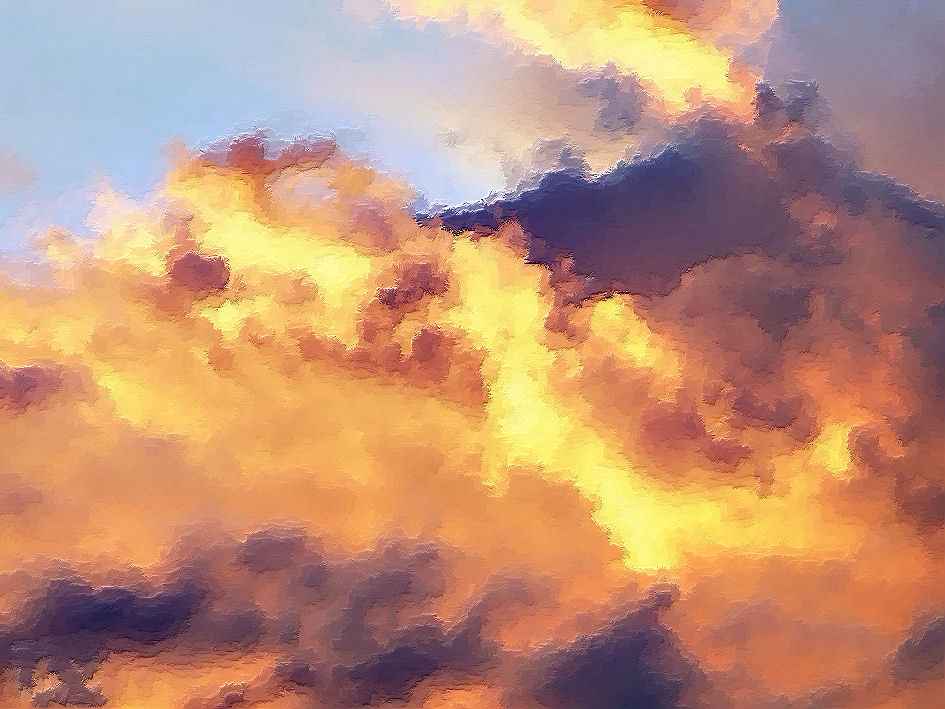
Плавка в небе. Компьютерная графика - А.Н.Кривомазов, Москва, март 2009 г.
| Биография Бродского, часть 1 | Биография Бродского, часть 2 |
| ООО "Интерсоциоинформ" |
|
