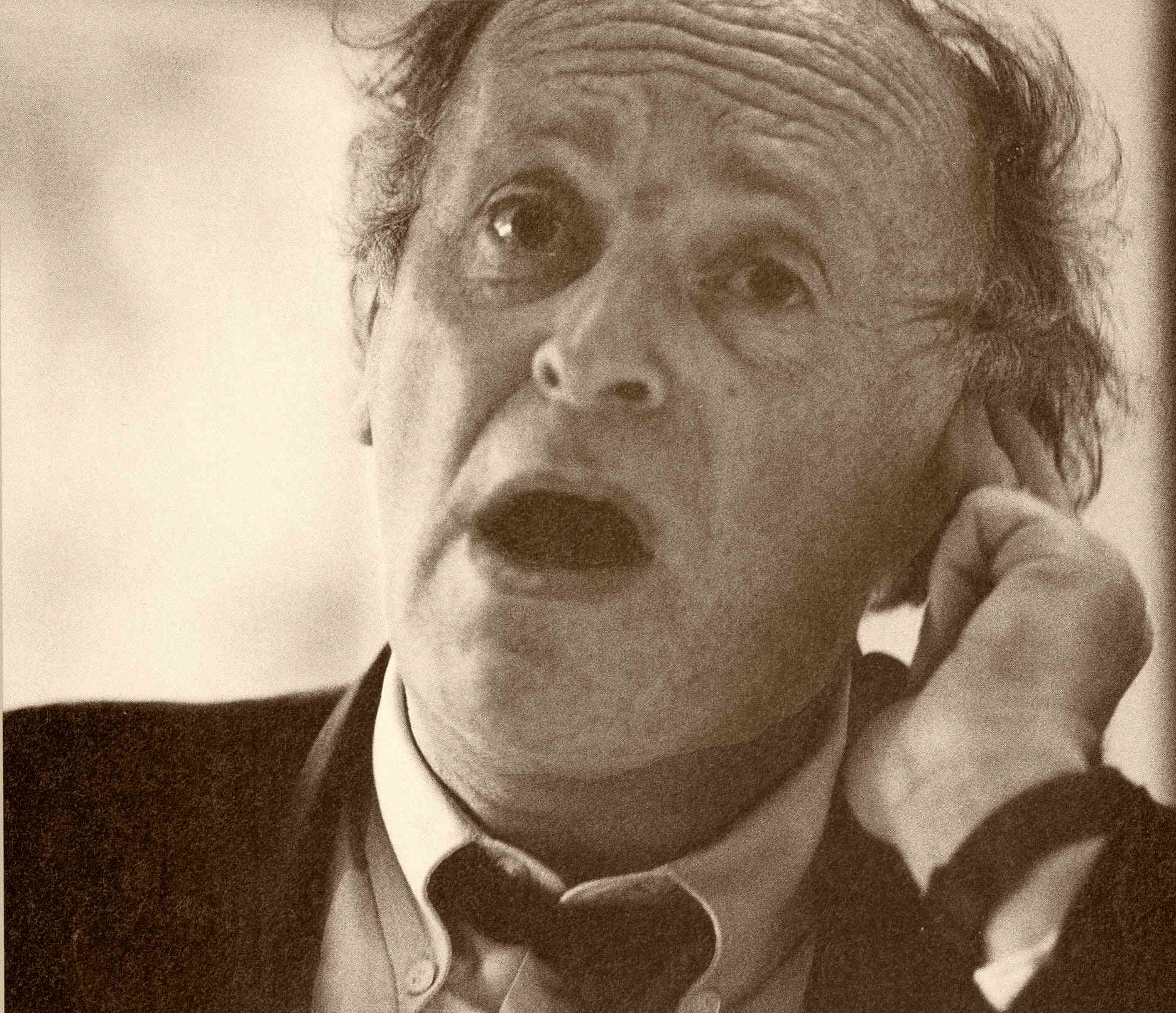Слова были сочинены еще в марте 67-го, в ленинградской гостинице, где он жил по соседству с приятелем и ровесником, грузинским поэтом Михаилом Квливидзе. Он приехал выступать, с собой у него был блокнот с недавней заготовкой—первыми двумя четверостишиями, с которыми он не знал еще, что делать. Однажды днем к нему робко постучали. На пороге стояла молодая грузинка—с первого взгляда он вообще принял ее за подростка, пятнадцать лет или даже тринадцать, а между тем она училась на третьем курсе филфака Ленинградского университета. «Здравствуйте. Я из Сухуми, учусь в Ленинграде. Меня зовут Дали Цаава, я хочу показать вам стихи».
Слова были сочинены еще в марте 67-го, в ленинградской гостинице, где он жил по соседству с приятелем и ровесником, грузинским поэтом Михаилом Квливидзе. Он приехал выступать, с собой у него был блокнот с недавней заготовкой—первыми двумя четверостишиями, с которыми он не знал еще, что делать. Однажды днем к нему робко постучали. На пороге стояла молодая грузинка—с первого взгляда он вообще принял ее за подростка, пятнадцать лет или даже тринадцать, а между тем она училась на третьем курсе филфака Ленинградского университета. «Здравствуйте. Я из Сухуми, учусь в Ленинграде. Меня зовут Дали Цаава, я хочу показать вам стихи».
—Но я не знаю грузинского!
—Как?—она даже отступила.
—Вот так, не случилось. Дома говорили по-русски. Если при маме начинали разговаривать по-грузински, она обрывала: «Давайте говорить на языке Ленина».
—Но вы ведь окончили филологический в Тбилиси!
—Окончил, у меня тройка по грузинскому. Мне даже преподаватель сказал: «Стыдно грузину не знать языка!» Но я им владею в самых скромных пределах. Знаете что? Покажите стихи моему другу, он живет рядом, замечательный грузинский поэт...
И она пошла к замечательному поэту, но, кажется, с сожалением. Ей нравился Окуджава, она знала наизусть все его песни, он был любимым ее поэтом—после Бродского, конечно. В Бродского она была влюблена не на шутку, даже думала о самоубийстве из-за его холодности. Когда он начинал читать, постепенно повышая голос, закрывая глаза, чуть раскачиваясь, она сжимала виски руками и шептала подруге: «Я сейчас умру».
С Бродским был даже стремительный роман, они виделись во время его коротких приездов в Тбилиси, она посвятила ему прекрасные стихи—о грехопадении в городе, усыпанном мертвыми листьями. Он ответил стихотворением «Ну как тебе в грузинских палестинах?»—доброжелательным, но далеко не таким пылким, как ее собственное посвящение. После его отъезда за границу она каждый год, в день его рождения, приходила к его родителям. У нее на руках в 1985 году умер его отец.
 А с Окуджавой они увиделись только в феврале 1983 года, когда он приезжал в Тбилиси. Это был приезд таинственный, к нему мы вернемся. Она подошла к нему после выступления и сказала те же слова: «Здравствуйте, я—Дали». И подарила книжку стихов. Он был поражен: ему и в голову не могло прийти, что она действительно станет поэтом. Ему просто имя понравилось—и тогда, в ленинградской гостинице, он сразу написал два недостающих четверостишия: «В черно-красном своем будет петь для меня моя Дали...». В первом варианте вместо слов «Царь небесный пошлет мне прощенье за прегрешенье» было более точное и грустное: «Ваши души—они наказанье мое и прощенье».
А с Окуджавой они увиделись только в феврале 1983 года, когда он приезжал в Тбилиси. Это был приезд таинственный, к нему мы вернемся. Она подошла к нему после выступления и сказала те же слова: «Здравствуйте, я—Дали». И подарила книжку стихов. Он был поражен: ему и в голову не могло прийти, что она действительно станет поэтом. Ему просто имя понравилось—и тогда, в ленинградской гостинице, он сразу написал два недостающих четверостишия: «В черно-красном своем будет петь для меня моя Дали...». В первом варианте вместо слов «Царь небесный пошлет мне прощенье за прегрешенье» было более точное и грустное: «Ваши души—они наказанье мое и прощенье».
Таким же наказаньем и прощеньем, вечным упреком и убежищем для Окуджавы была Грузия, символом которой он сделал студентку Дали.
Однокурсницы ее обожали. Когда она рассказывала про свой Сухуми, то целовала кончики пальцев: «Клянусь, лучший город!» И все поэты там были «клянусь, гении». А когда при ней в общежитии ссорились, она кричала своим низким страстным голосом: «Вах, зарэжу!»—и все хохотали, и ссора прекращалась. Еще она беспрерывно курила. Еще она выдумала способ заработать—мастерила самодельные украшения и охотно учила этому однокурсниц. После окончания университета она жила в Тбилиси, там и умерла в 2003 году. Но тяжело болела со второй половины 90-х—ее добивала растущая пропасть между двумя ее родинами.
.. Что делал бы сейчас Окуджава, что говорил бы? Представить это невозможно: в стране, где существовал, пел, высказывался Окуджава, не могло произойти русско-грузинской войны, а в стране, где до нее дошло, не может быть никакого Окуджавы, для него просто нет места. Он был не столько нравственным, сколько эстетическим компасом—на его поступки и высказывания можно было ссылаться как на образец последовательного и красивого поведения. А в сегодняшней ситуации, где всем правит неизбежность и не осталось выбора, красивого поведения нет. Оно не предусмотрено. Оказываешься то предателем, то убийцей. Все только и делают, что клеймят друг друга, обзываются в худших школьных традициях, и оттого те, кто мог бы сказать что-нибудь осмысленное, попросту боятся открыть рот.
Между тем отношение Окуджавы к Грузии—тема непростая, и говорить о ней еще придется. В дневниках Эйдельмана, его ближайшего друга, сохранилась запись 1985 года: у Эйдельмана гостит Ираклий Абашидзе, превосходный грузинский поэт. Заходит Окуджава. Абашидзе смотрит на него хмуро: «Твой отец, его братья и Орджоникидзе привели русских в Грузию!» И поди пойми, шутит он или серьезен. Потом Окуджава поет, и Абашидзе смягчается, преображается, смотрит на него с нежностью... Жить в Грузии, нося фамилию Окуджава, было потрудней, чем в России с фамилией Бухарин. Всю семью уничтожили под корень, чудом спаслась тетка Мария, да и то потому, что жила в Москве и носила фамилию Андреева. Владимир Окуджава, старший из дядьев Булата, вернулся из Швейцарии в 1917 году в том самом пломбированном вагоне, в котором возвращался Ленин, но был беспартийным (в Швейцарии прятался после покушения на кутаисского губернатора). Другие братья—Николай и Михаил—вместе с Буду Мдивани действительно участвовали в большевистском перевороте в ночь с 24 на 25 февраля 1921 года. И звали в Тифлис 11-ю армию под командованием Геккера (кстати, тифлисского уроженца). И Буду Мдивани на своем процессе в 1937 году сказал: «Меня не расстрелять, меня четвертовать надо—ведь это я привел сюда одиннадцатую армию». Меньшевистское правительство Ноя Жордании бежало. Вместе с ним в Кутаиси, а потом в Батуми бежали от большевистской власти тысячи грузин. С одним из них Окуджава встретился в Париже в 1968 году, после своих выступлений там, когда его позвали в грузинский эмигрантский ресторанчик. «Я учился с вашим отцом в кутаисской гимназии, я Тамаз, сын адвоката Басария... Ваш отец выгнал нас из Кутаиси». «Простите»,—сказал Окуджава, покраснев. «Ничего страшного. Как видите, он спас мне жизнь, а сам погиб»...
Трудно сегодня упрекать отца и дядьев Окуджавы за то, что они позвали в Тифлис 11-ю армию и с ее помощью осуществили большевистский переворот. Они надеялись, что Грузия получит в составе СССР максимально широкую автономию, и Ленин им такую автономию пообещал—это потом Сталин перечеркнул все обещанные Лениным свободы, включая право на внешнеэкономическую деятельность. Сталина грузинские большевики ненавидели, называли «горийским попом», презирали за необразованность, не признавали за ним ни малейших революционных заслуг—он в ответ упрекал их в национализме, в недостатке уважения к российскому пролетариату... В 1927 году он добьется исключения из партии старших братьев Шалвы Окуджавы—Михаила и Николая. Они отбудут ссылку, вернутся, будут восстановлены в партии—но во второй половине 30-х Берия по требованию Сталина доберется до всех. В том числе и до отца Окуджавы, который из-за конфликтов с Берией к тому времени покинет Грузию и станет парторгом Уралвагонстроя. Там, в Нижнем Тагиле, его исключат из партии в феврале 37-го, а арестуют в Свердловске, куда он поедет добиваться правды. А спасти его будет некому—Серго Орджоникидзе уже застрелится (или будет застрелен—всей правды мы никогда не узнаем).
Окуджава боготворил отца. Если при нем задевали его память—мгновенно каменел. Как вспоминала Евгения Таратута, при воспоминании о нем и о трагедии своей семьи он и в 45 лет не мог удержать слез. Он долго оставался правоверным коммунистом, а интернационалистом был до последнего дня, резко осаживая любого, кто пытался при нем затеять спор о преимуществах одного народа перед другим. И при всем своем позднем презрении к советской власти он всегда считал национальный конфликт наихудшим злом—так что крах коммунизма приветствовал, а распаду СССР ужасался.
 Тбилиси спас его—здесь он жил с лета 1940 года, после ареста матери. Бабушка с младшим братом Окуджавы, Виктором, осталась в Москве, а его забрала с Арбата тетя Сильвия: он попал в дурную компанию, как ей казалось. Мир арбатского двора—мир, где играла радиола и правил своим королевством Ленька Королев (в реальности Гаврилов)—представлялся ей опасным и в самом деле не был идиллией. Но именно этот мир Окуджава запомнил как остров счастья среди бесчеловечной Москвы 39-го года: здесь, по крайней мере, не давали в обиду своих. Отъезд в Тбилиси он поначалу воспринял очень тяжело, но скоро полюбил новую школу, где литературу преподавала Анна Аветовна Малхаз-Тарумова—влюбленная в русскую словесность и первой оценившая его стихи, тогда насквозь маяковские и есенинские. Отсюда он в августе 1942 года ушел на фронт, сюда вернулся два года спустя комиссованным, здесь впервые напечатался (в газете «Боец РККА» работал Ираклий Андроников, и он даже завел для стихов Окуджавы специальную рубрику). Здесь же он женился в 1947 году—на дочери откомандированного в Тбилиси подполковника Василия Смольянинова, своей однокурснице Галине. Сюда вернулась в том же 47-м его мать Ашхен Окуджава—чтобы два года спустя отправиться в сибирскую ссылку, окончившуюся только в 54-м. Окуджава, по собственному признанию, всегда чувствовал затылком чей-то таинственный «голубой взгляд с поволокой»—жандармский взгляд; знал, что ему многого нельзя, но знал и то, что Тбилиси его спрячет. Он знал, что здесь работают законы родства—более архаичные, быть может, но и более крепкие, чем любые идейные связи. Здесь тоже не выдавали своих и умудрялись как-то смягчить всеобщей круговой порукой жестокие, нечеловеческие законы государства. Так умудрилась его тетка Сильвия, нажав на все рычаги, выговорить для Ашхен ссылку вместо нового лагерного срока; так самого Окуджаву предупредили, что его могут арестовать вместе с десятком однокурсников, составлявших литературный кружок (какой кружок?! Заговор!), и он успеет уехать в Москву, пересидеть волну арестов и вернуться к зимней сессии 1949 года... Тбилиси в его сознании—несмотря на все унижения, которые ему там выпали, и на всю его любовь к Москве, по которой он там ежеминутно тосковал—остался образом убежища, рая; и именно поэтому в главах «Путешествия дилетантов» о бегстве Мятлева (в реальности—князя Сергея Трубецкого) в Тифлис столько радости и страсти, и долгожданного отдохновения. Физически трудно, медленно тащится повествование по российским ухабам, но едва оно врывается в пределы благословенной Грузии, как авторский слог так и скачет. «Граница Запада с Востоком, Севера с Югом, Азии с Европой, смешение православия с магометанством, истошные крики мулл и греческие песнопения христиан, кровь, месть, разбой, захват, подавление, рабство и насмешливый шепот господина ван Шонховена… Раскаленные голые скалы, нависшие над головами; внезапно—прохладный ветер, внезапно—родниковая вода из запотевшего кувшина, какая-то бескрайняя неправдоподобная изумрудная долина, мерцающая в разрывах облаков где-то на страшной глубине; гранитный крест ермоловских времен, печеная форель на гигантских листьях лопуха, нечастые приземистые харчевни, именуемые духанами, горький дух от прелого прошлогоднего кизила и умопомрачительный аромат из винных бочек… странные мелодии, странная речь, странная жестикуляция… И когда все это осталось позади, перед ними открылся Тифлис! (…) У него сложный состав крови, настоянной на византийской пышности, на персидской томности и на арабском коварстве, он был создан на пересечении самых безумных страстей и самых неудержимых порывов в подтверждение вечной истины, что добро и зло не ходят в одиночку, как, впрочем, коварство и любовь».
Тбилиси спас его—здесь он жил с лета 1940 года, после ареста матери. Бабушка с младшим братом Окуджавы, Виктором, осталась в Москве, а его забрала с Арбата тетя Сильвия: он попал в дурную компанию, как ей казалось. Мир арбатского двора—мир, где играла радиола и правил своим королевством Ленька Королев (в реальности Гаврилов)—представлялся ей опасным и в самом деле не был идиллией. Но именно этот мир Окуджава запомнил как остров счастья среди бесчеловечной Москвы 39-го года: здесь, по крайней мере, не давали в обиду своих. Отъезд в Тбилиси он поначалу воспринял очень тяжело, но скоро полюбил новую школу, где литературу преподавала Анна Аветовна Малхаз-Тарумова—влюбленная в русскую словесность и первой оценившая его стихи, тогда насквозь маяковские и есенинские. Отсюда он в августе 1942 года ушел на фронт, сюда вернулся два года спустя комиссованным, здесь впервые напечатался (в газете «Боец РККА» работал Ираклий Андроников, и он даже завел для стихов Окуджавы специальную рубрику). Здесь же он женился в 1947 году—на дочери откомандированного в Тбилиси подполковника Василия Смольянинова, своей однокурснице Галине. Сюда вернулась в том же 47-м его мать Ашхен Окуджава—чтобы два года спустя отправиться в сибирскую ссылку, окончившуюся только в 54-м. Окуджава, по собственному признанию, всегда чувствовал затылком чей-то таинственный «голубой взгляд с поволокой»—жандармский взгляд; знал, что ему многого нельзя, но знал и то, что Тбилиси его спрячет. Он знал, что здесь работают законы родства—более архаичные, быть может, но и более крепкие, чем любые идейные связи. Здесь тоже не выдавали своих и умудрялись как-то смягчить всеобщей круговой порукой жестокие, нечеловеческие законы государства. Так умудрилась его тетка Сильвия, нажав на все рычаги, выговорить для Ашхен ссылку вместо нового лагерного срока; так самого Окуджаву предупредили, что его могут арестовать вместе с десятком однокурсников, составлявших литературный кружок (какой кружок?! Заговор!), и он успеет уехать в Москву, пересидеть волну арестов и вернуться к зимней сессии 1949 года... Тбилиси в его сознании—несмотря на все унижения, которые ему там выпали, и на всю его любовь к Москве, по которой он там ежеминутно тосковал—остался образом убежища, рая; и именно поэтому в главах «Путешествия дилетантов» о бегстве Мятлева (в реальности—князя Сергея Трубецкого) в Тифлис столько радости и страсти, и долгожданного отдохновения. Физически трудно, медленно тащится повествование по российским ухабам, но едва оно врывается в пределы благословенной Грузии, как авторский слог так и скачет. «Граница Запада с Востоком, Севера с Югом, Азии с Европой, смешение православия с магометанством, истошные крики мулл и греческие песнопения христиан, кровь, месть, разбой, захват, подавление, рабство и насмешливый шепот господина ван Шонховена… Раскаленные голые скалы, нависшие над головами; внезапно—прохладный ветер, внезапно—родниковая вода из запотевшего кувшина, какая-то бескрайняя неправдоподобная изумрудная долина, мерцающая в разрывах облаков где-то на страшной глубине; гранитный крест ермоловских времен, печеная форель на гигантских листьях лопуха, нечастые приземистые харчевни, именуемые духанами, горький дух от прелого прошлогоднего кизила и умопомрачительный аромат из винных бочек… странные мелодии, странная речь, странная жестикуляция… И когда все это осталось позади, перед ними открылся Тифлис! (…) У него сложный состав крови, настоянной на византийской пышности, на персидской томности и на арабском коварстве, он был создан на пересечении самых безумных страстей и самых неудержимых порывов в подтверждение вечной истины, что добро и зло не ходят в одиночку, как, впрочем, коварство и любовь».
И потому именно сюда отправился он с молодой невестой, Ольгой Арцимович, в ноябре 1963 года, взяв командировку от «Литературной газеты», в которой уже не работал, но сохранил друзей. Джансуг Чарквиани рассказывал мне две недели назад, в еще совершенно мирном Тбилиси, во время приезда русских поэтов на юбилей Маяковского: «Мы сидели в кабачке под Тбилиси, пели, я все ему говорил—Булат, ты грузин! Он отмахивался: какой я грузин? А мы с Отаром Чиладзе настаивали: ты же наш!». Он посвятит им потом—братьям Чиладзе и Джансугу—свой «Последний мангал» и цикл «Фрески», написанный сразу после путешествия. Эдуард Елигулашвили вспоминал: «Старый духан на склоне горы у храма Метехи, Кура под окнами, грузинские поэты братья Чиладзе и Джансуг Чарквиани в три голоса напевают грузинские песни, звучат тосты... Неожиданно открылась дверь помещения и в задымленный зал вошел местный рыбак с только-только выловленной рыбой, еще трепыхавшейся на плетеном блюде. Наметанным глазом выбрав нашу компанию, он вывалил прямо на столешницу свой улов: «Вам, дорогие, кушайте на здоровье!» Оля никак не могла поверить, что все это не подстроено, что для рыбака это обычный заработок, что за рыбу тут же расплатился кто-то из застольников: «Кто придумал, ребята, кто все так придумал!»—повторяла она в восторге».
У Окуджавы была мечта приехать в Грузию с Марленом Хуциевым, с которым он дружил с 1962 года, со съемок «Заставы Ильича» в Политехническом. У него и стихи об этом были—«Мы приедем сюда, приедем... Мы откроем нашу родину снова, но уже для самих себя». Мечта эта не осуществилась, и в Тбилиси они ездили врозь. Один из самых печальных и странных приездов был в феврале 1983 года—тогда Окуджава оказался в очередной опале. После разгрома «Метрополя» (он там не напечатался, но мог бы по-пушкински сказать «Все мои друзья были в заговоре») в литературе воцарилась реакция; Андропов завинчивал гайки, добивая последних диссидентов. Окуджава впервые в жизни всерьез задумывался об эмиграции. И тогда Теймураз Степанов—спичрайтер и помощник Шеварднадзе—предложил ему приехать в Тбилиси, пожить, осмотреться: может быть, Грузия опять его укроет? Он приехал на две недели, выступил перед журналистами «Вечернего Тбилиси» (уговорил Степанов, Окуджава был простужен и избегал публичных встреч), побывал на «Грузия-фильме», где Абуладзе—с ведома и под прикрытием Шеварднадзе—уже снимал «Покаяние»... Тогда эмиграция не состоялась, но думал он о ней серьезно. Ему предлагали в Тбилиси, как рассказывал он московским друзьям, «на самом высоком уровне», жилье и публикации. Он тогда остался в Москве, от которой отрывался с трудом, но за помощь поблагодарил.
Мы почти ничего не знаем о том, как относился он к Грузии после развала СССР. Знаем, что Гамсахурдиа вызывал у него резкое неприятие, как и у другого великого грузина—Мераба Мамардашвили. Знаем, что в Тбилиси он в 90-х уже не бывал ни разу. Знаем, что считал межнациональные войны самым страшным последствием краха империи. И кажется, сегодня он имел бы все основания сказать: как бы ни был плох Советский Союз—то, что его погубило, было еще хуже.
Чудо Окуджавы возможно было только на пересечении двух кровей и культур—грузинской и армянской; на границе двух миров—русского и кавказского; на слиянии двух традиций—арбатской и горской, для которых одинаково священен кодекс чести. Эти два мира он слил в себе, как сливал стихи и мелодию в нерасторжимое гармоническое единство. Сегодня его мир разорван. Я помню, как в Баку Сергей Никитин запел песню Окуджавы—и в зале поднялся свист: сын армянки! Никитин допел, но из зала потянулись люди—к концу песни там оставалась едва половина.
Если в чем и было оправдание СССР, так это в немногих ангельских голосах, которые там звучали. Но лучшее гибнет первым. И какой бы тяжкой потерей ни была для всех нас смерть Окуджавы—хорошо, что он не дожил до августа этого года.
Фото ИСААКА ТУНКЕЛЯ/АРХИВ «ОГОНЬКА», ЮРИЯ ФЕКЛИСТОВА/АРХИВ «ОГОНЬКА», ВЛАДИМИРА ГОЛОВИНА