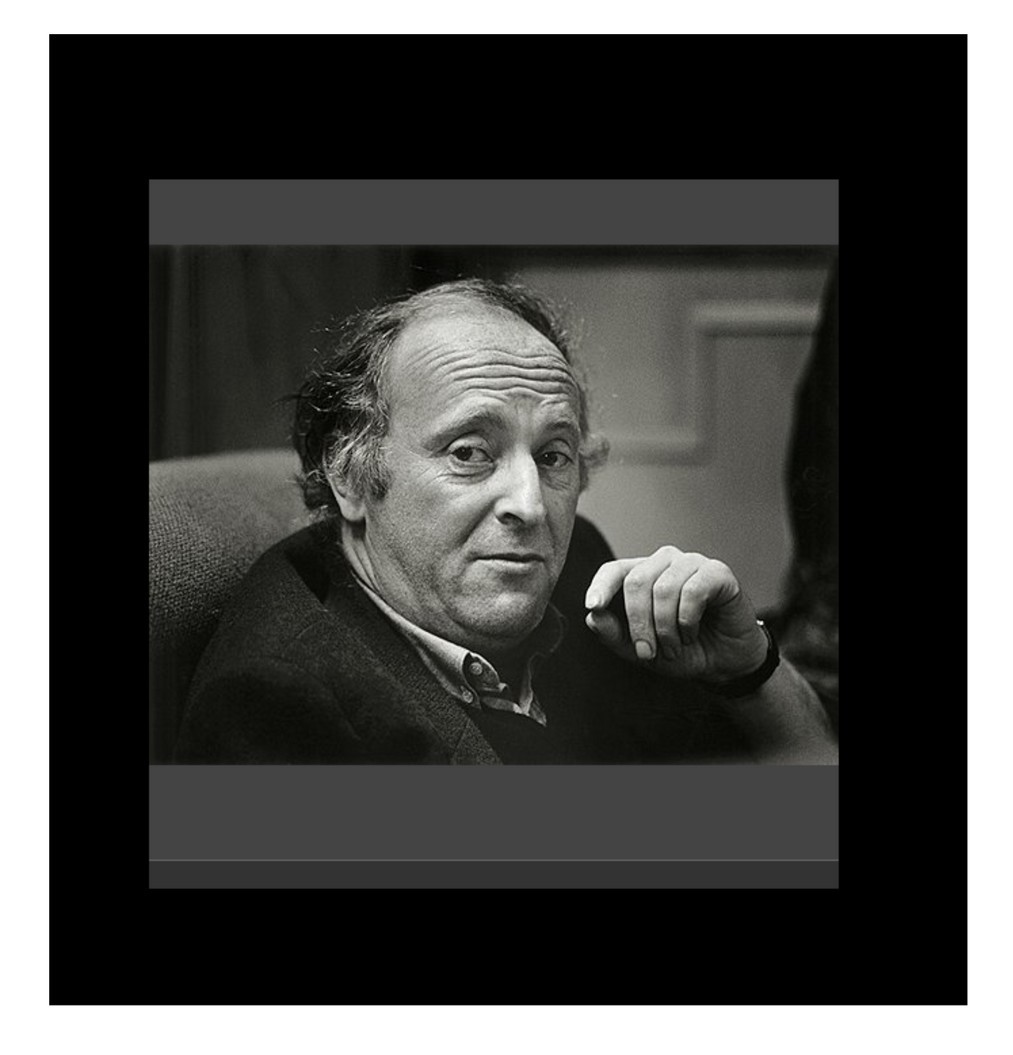Право автора
Бродский на Тресковом мысе
21.05.2010 09:00
Земную жизнь пройдя до половины, поэт оказался ни там, ни здесь – на Кэйп-Коде. Этот мыс напоминает загнутый к материку коготь. С высокой дюны видно, как солнце садится в воду. И это зрелище - необычное на атлантическом берегу США, но тривиальное на Балтийском море - туристы встречают шампанским. Кэйп-Код дальше всего вытянулся к Европе. Поэтому с его пляжа Маркони пытался установить радиосвязь со Старым Светом. Но задолго до этого к мысу пристали пилигримы, начавшие с него, как и Бродский, свое освоение Америки.
"Колыбельная Трескового мыса" не могла быть написана в другом месте, потому что ее структуру определяет географическое положение Кэйп-Кода. Это – либо "восточный конец Империи", либо ее начало - пролог и порог.
Летней ночью, в темной и душной комнате, мир для поэта свернулся плоской восьмеркой. Правая петля – то, что было: "строй янычар в зеленом". Левая – необжитая, лишенная ментальной обстановки пустота грядущего: "голый паркет – как мечта ферзя. Без мебели жить нельзя". Песчаной точкой пересечений служит Кэйп-Код. Мыс - место, где встречаются два полушария – и головы, и глобуса. Здесь прошлое сражается с будущим, тьма со светом, родина с одиночеством и сон с бессонницей – потому и "Колыбельная".
Душная темнота – это Запад, страна заката. Поэт о ней знает лишь то, что попало в строку:
Белозубая колоннада
Окружного Суда, выходящая на бульвар,
В ожидании вспышки…
Обильные в провинциальной Америке колонны, часто деревянные, наивно побеленные под мрамор - одновременно напоминают и профанируют привычную автору, но столь же вымышленную античность его родного Петербурга. За это он прозвал архитектуру Провинстауна обидно придуманным словом "парвенон". ("Парфенон для парвеню", - объяснил Лосев).
В съеденный тьмой город из моря на сушу выходят аборигены "континента, который открыли сельдь и треска". Особенно – последняя. Бродскому она является в ночи как неотвязчивая мысль о прошлом:
Дверь скрипит. На пороге стоит треска.
Просит пить, естественно, ради Бога".
Треска, которую поэт себе запрещает называть ее настоящим именем – тоска - приходит из глубины бездонного, как океан, сознания, чтобы подсказать важное:
Иногда в том хаосе, в свалке дней,
возникает звук, раздается слово.
В тупике мыса, ставящего предел перемещению в пространстве, заметнее движение во времени. Это – жизнь, заключенная в нас. Человек - тоже мыс. "Крайняя плоть пространства", он - "конец самого себя и вдается во Время". И если пространство, как говорила треска, - вещь, то Время же, в сущности, мысль о вещи".
В этой бесконечной, как та самая лежащая восьмерка, "мысли о вещи", поэт, подслушивая звучащий в нем голос времени, находит выход из тупика и называет его "Колыбельной Трескового мыса". Бродский написал ее в 35 лет. Хороший возраст, но половины не вышло: 70 Бродскому исполнилось только сейчас.
"Колыбельная Трескового мыса" не могла быть написана в другом месте, потому что ее структуру определяет географическое положение Кэйп-Кода. Это – либо "восточный конец Империи", либо ее начало - пролог и порог.
Летней ночью, в темной и душной комнате, мир для поэта свернулся плоской восьмеркой. Правая петля – то, что было: "строй янычар в зеленом". Левая – необжитая, лишенная ментальной обстановки пустота грядущего: "голый паркет – как мечта ферзя. Без мебели жить нельзя". Песчаной точкой пересечений служит Кэйп-Код. Мыс - место, где встречаются два полушария – и головы, и глобуса. Здесь прошлое сражается с будущим, тьма со светом, родина с одиночеством и сон с бессонницей – потому и "Колыбельная".
Душная темнота – это Запад, страна заката. Поэт о ней знает лишь то, что попало в строку:
Белозубая колоннада
Окружного Суда, выходящая на бульвар,
В ожидании вспышки…
Обильные в провинциальной Америке колонны, часто деревянные, наивно побеленные под мрамор - одновременно напоминают и профанируют привычную автору, но столь же вымышленную античность его родного Петербурга. За это он прозвал архитектуру Провинстауна обидно придуманным словом "парвенон". ("Парфенон для парвеню", - объяснил Лосев).
В съеденный тьмой город из моря на сушу выходят аборигены "континента, который открыли сельдь и треска". Особенно – последняя. Бродскому она является в ночи как неотвязчивая мысль о прошлом:
Дверь скрипит. На пороге стоит треска.
Просит пить, естественно, ради Бога".
Треска, которую поэт себе запрещает называть ее настоящим именем – тоска - приходит из глубины бездонного, как океан, сознания, чтобы подсказать важное:
Иногда в том хаосе, в свалке дней,
возникает звук, раздается слово.
В тупике мыса, ставящего предел перемещению в пространстве, заметнее движение во времени. Это – жизнь, заключенная в нас. Человек - тоже мыс. "Крайняя плоть пространства", он - "конец самого себя и вдается во Время". И если пространство, как говорила треска, - вещь, то Время же, в сущности, мысль о вещи".
В этой бесконечной, как та самая лежащая восьмерка, "мысли о вещи", поэт, подслушивая звучащий в нем голос времени, находит выход из тупика и называет его "Колыбельной Трескового мыса". Бродский написал ее в 35 лет. Хороший возраст, но половины не вышло: 70 Бродскому исполнилось только сейчас.
Иосиф Бродский
Письмо в академию
Как это ни провинциально, я
настаиваю, что существуют птицы
с пятьюдесятью крыльями. Что есть
пернатые крупней, чем самый воздух,
питающиеся просом лет
и падалью десятилетий.
Вот почему их невозможно сбить
и почему им негде приземлиться.
Их приближенье выдает их звук -
совместный шум пятидесяти крыльев,
размахом каждое в полнеба, и
вы их не видите одновременно.
Я называю их про себя "углы".
В их опереньи что-то есть от суммы комнат,
от суммы городов, куда меня
забрасывало. Это сходство
снижает ихнюю потусторонность.
Я вглядываюсь в их черты без страха:
в мои пятьдесят три их клювы
и когти - стершиеся карандаши, а не
угроза печени, а языку - тем паче.
Я - не пророк, они - не серафимы.
Они гнездятся там, где больше места,
чем в этом или в том конце
галактики. Для них я - точка,
вершина острого или тупого -
в зависимости от разворота крыльев -
угла. Их появление сродни
вторженью клинописи в воздух. Впрочем,
они сужаются, чтобы спуститься,
а не наоборот - не то, что буквы.
"Там, наверху", как персы говорят,
углам надоедает расширяться
и тянет сузиться. Порой углы,
как веер складываясь, градус в градус,
дают почувствовать, что их вниманье к вашей
кончающейся жизни есть рефлекс
самозащиты: бесконечность тоже,
я полагаю, уязвима (взять
хоть явную нехватку в трезвых
исследователях). Большинство в такие
дни восставляют перпендикуляры,
играют циркулем или, напротив, чертят
пером зигзаги в стиле громовержца.
Что до меня, произнося "отбой",
я отворачиваюсь от окна
и с облегченьем упираюсь взглядом в стенку.
1993

| Биография Бродского, часть 1 | Биография Бродского, часть 2 |
| ООО "Интерсоциоинформ" |