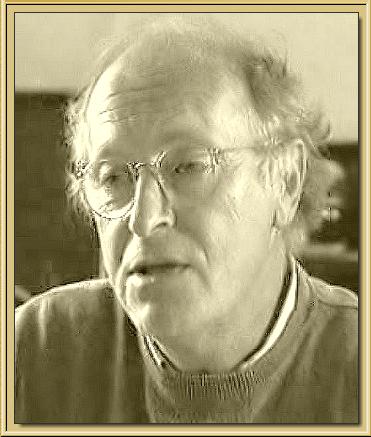
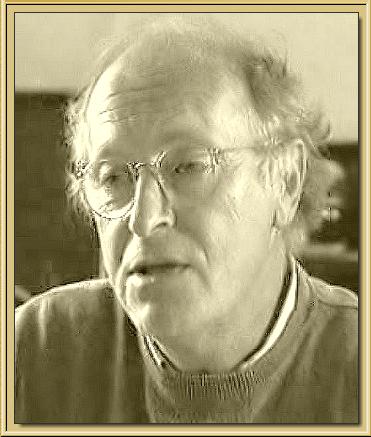
Фотографии Бродского на этом сайте,
собранные из разных источников и в разное время,
подвигли меня к написанию статьи
"Судьба Бродского в фотографиях",
опубликованной в литературном приложении в 11-м номере за 2006 г.
журнала "Экономика XXI века".
Иосиф БРОДСКИЙ
Остановка в пустыне
Освоение космоса
"Сумев отгородиться от людей..."
"Вполголоса - конечно, не во весь..."
К стихам
Морские маневры
"Отказом от скорбного перечня - жест..."
Отрывок ("Октябрь - месяц грусти и простуд...")
Отрывок ("Ноябрьским днем, когда защищены...")
По дороге на скирос
Прощайте, мадмуазель Вероника
"Сын! Если я не мертв, то потому..."
Фонтан
Элегия на смерть Ц. В.
1 сентября 1939 года
Postscriptum
Anno domini
"Я выпил газированной воды..."
Почти элегия
Неоконченный отрывок
Подсвечник
Прачечный мост
"Просыпаюсь по телефону, бреюсь..."
Строфы
Шесть лет спустя
Элегия
Горбунов и Горчаков
Зимним вечером в Ялте
Посвящается Ялте
Дидона и Эней
Из "Школьной антологии"
"Я пробудился весь в поту..."
Дерево
Любовь
24 декабря 1971 года
Одному тирану
Письма римскому другу
Сретенье
1972 год
Бабочка
В озерном краю
Набросок
Одиссей Телемаку
"Осенний вечер в скромном городке..."
Песня невинности, она же - опыта
Похороны Бобо
Торс
Роттердамский дневник
Лагуна
Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова
На смерть друга
Война в убежище Киприды
"Барбизон террас"
Двадцать сонетов к Марии Стюарт
Над восточной рекой
На смерть Жукова
"Песчаные холмы, поросшие сосной..."
Темза в Челси
Колыбельная Трескового мыса
Мексиканский дивертисмент
Осенний крик ястреба
"Классический балет есть замок красоты..."
Новый Жюль Верн
Развивая Платона
ЧАСТЬ РЕЧИ
"Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря..."
"Север крошит металл, но щадит стекло..."
"Узнаю этот ветер, налетающий на траву..."
"Это - ряд наблюдений. В углу - тепло..."
"Потому что каблук оставляет следы - зима..."
"Деревянный лаокоон, сбросив на время гору с..."
"Я родился и вырос в балтийских болотах, подле..."
"Что касается звезд, то они всегда..."
"В городке, из которого смерть расползлась по школьной карте..."
"Около океана, при свете свечи; вокруг..."
"Ты забыла деревню, затерянную в болотах..."
"Тихотворение мое, мое немое..."
"Темно-синее утро в заиндевевшей раме..."
"С точки зрения воздуха, край земли..."
"Заморозки на почве и облысенье леса..."
"Всегда остается возможность выйти из дому на..."
"Итак, пригревает. В памяти, как на меже..."
"Если что-нибудь петь, то перемену ветра..."
"...и при слове "грядущее" из русского языка..."
"Я не то, что схожу с ума, но устал за лето..."
Пятая годовщина
Квинтет
Письма династии Минь
Сан-Пьетро
Шорох акации
В Англии
Полярный исследователь
"Ты, гитарообразная вещь со спутанной паутиной..."
"Восславим приход весны! Ополоснем лицо..."
"Время подсчета цыплят ястребом; скирд в тумане..."
Полдень в комнате
"Помнишь свалку вещей на железном стуле..."
Строфы
Шведская музыка
Источник:
Иосиф Бродский. Сочинения в четырех томах. Санкт-Петербург. "Пушкинский фонд", 1994.Теперь так мало греков в Ленинграде,
что мы сломали Греческую церковь,
дабы построить на свободном месте
концертный зал. В такой архитектуре
есть что-то безнадежное. А впрочем,
концертный зал на тыщу с лишним мест
не так уж безнадежен: это - храм,
и храм искусства. Кто же виноват,
что мастерство вокальное дает
сбор больший, чем знамена веры?
Жаль только, что теперь издалека
мы будем видеть не нормальный купол,
а безобразно плоскую черту.
Но что до безобразия пропорций,
то человек зависит не от них,
а чаще от пропорций безобразья.Прекрасно помню, как ее ломали.
Была весна, и я как раз тогда
ходил в одно татарское семейство,
неподалеку жившее. Смотрел
в окно и видел Греческую церковь.
Все началось с татарских разговоров;
а после в разговор вмешались звуки,
сливавшиеся с речью поначалу,
но вскоре - заглушившие ее.
В церковный садик въехал экскаватор
с подвешенной к стреле чугунной гирей.
И стены стали тихо поддаваться.
Смешно не поддаваться, если ты
стена, а пред тобою - разрушитель.К тому же экскаватор мог считать
ее предметом неодушевленным
и, до известной степени, подобным
себе. А в неодушевленном мире
не принято давать друг другу сдачи.
Потом - туда согнали самосвалы,
бульдозеры... И как-то в поздний час
сидел я на развалинах абсиды.
В провалах алтаря зияла ночь.
И я - сквозь эти дыры в алтаре -
смотрел на убегавшие трамваи.
на вереницу тусклых фонарей.
И то, чего вообще не встретишь в церкви,
теперь я видел через призму церкви.Когда-нибудь, когда не станет нас,
точнее - после нас, на нашем месте
возникнет тоже что-нибудь такое,
чему любой, кто знал нас, ужаснется.
Но знавших нас не будет слишком много.
Вот так, по старой памяти, собаки
на прежнем месте задирают лапу.
Ограда снесена давным-давно,
Но им, должно быть, грезится ограда.
Их грезы перечеркивают явь.
А может быть земля хранит тот запах:
асфальту не осилить запах псины.
И что им этот безобразный дом!
Для них тут садик, говорят вам - садик.
А то, что очевидно для людей
собакам совершенно безразлично.
Вот это и зовут: "собачья верность".
И если довелось мне говорить
всерьез об эстафете поколений,
то верю только в эту эстафету.
Вернее, в тех, кто ощущает запах.Так мало нынче в Ленинграде греков,
да и вообще - вне Греции - их мало.
По крайней мере, мало для того,
чтоб сохранить сооруженья веры.
А верить в то, что мы сооружаем
от них никто не требует. Одно,
должно быть, дело нацию крестить,
а крест нести - уже совсем другое.
У них одна обязанность была.
Они ее исполнить не сумели.
Непаханное поле заросло.
"Ты, сеятель, храни свою соху,
а мы решим, когда нам колоситься".
Они свою соху не сохранили.Сегодня ночью я смотрю в окно
и думаю о том, куда зашли мы?
И от чего мы больше далеки:
от православья или эллинизма?
К чему близки мы? Что там, впереди?
Не ждет ли нас теперь другая эра?
И если так, то в чем наш общий долг?
И что должны мы принести ей в жертву?1 полугодие 1966
Чердачное окно отворено.
Я выглянул в чердачное окно.
Мне подоконник врезался в живот.
Под облаками кувыркался голубь.
Над облаками синий небосвод
не потолок напоминал, а прорубь.Светило солнце, пахло резедой.
Наш флюгер верещал, как козодой.
Дом тень свою отбрасывал. Забор
не тень свою отбрасывал, а зебру,
что несколько уродовало двор.
Поодаль гумна оседали в землю.Сосед петух над клушей мельтешил.
А наш петух свою тоску глушил,
такое видя, в сильных кукареках.
Я сухо этой драмой пренебрег,
включил приемник "Родина" и лег.
И этот Вавилон на батарейкахдонес, что в космос взвился человек.
А я лежал, не поднимая век,
и размышлял о мире многоликом.
Я рассуждал: зевай иль примечай,
но все равно о малом и великом
мы, если узнаем, то невзначай.1966
Сумев отгородиться от людей,
я от себя хочу отгородиться.
Не изгородь из тесаных жердей,
а зеркало тут больше пригодится.
Я озираю хмурые черты,
щетину, бугорки на подбородке.
Трельяж для разводящейся четы,
пожалуй, лучший вид перегородки.
В него влезают сумерки в окне,
край пахоты с огромными скворцами
и озеро - как брешь в стене,
увенчанной еловыми зубцами.
Того гляди,
что из озерных дыр
да и вообще - через любую лужу
сюда полезет посторонний мир.
Иль этот уползет наружу.1966
Вполголоса - конечно, не во весь -
прощаюсь навсегда с твоим порогом.
Не шелохнется град, не встрепенется весь
от голоса приглушенного.
С Богом!
По лестнице, на улицу, во тьму...
Перед тобой - окраины в дыму,
простор болот, вечерняя прохлада.
Я не преграда взору твоему,
словам твоим печальным - не преграда.
И что оно - отсюда не видать.
Пучки травы... и лиственниц убранство...
Тебе не в радость, мне не в благодать
безлюдное доступное пространство.1966 (?)
Скучен вам, стихи мои, ящик...
КантемирНе хотите спать в столе. Прытко
возражаете: "Быв здраву,
корчиться в земле суть пытка".
Отпускаю вас. А что ж ? Праву
на свободу возражать - грех. Мне же
хватит и других - здесь, мыслю,
не стихов: грехов. Все реже
сочиняю вас. Да вот, кислу
мину позабыл аж даве
сделать на вопрос: "Как вирши?
Прибавляете лучей к славе?"
Прибавляю, говорю. Вы же
оставляете меня. Что ж! Дай вам
Бог того, что мне ждать поздно.
Счастья, мыслю я. Даром,
что я сам вас сотворил. Розно
с вами мы пойдем: вы - к людям,
я - туда, где все будем.До свидания, стихи. В час добрый.
Не боюсь за вас; есть средство
вам перенести путь долгий:
милые стихи, в вас сердце
я свое вложил. Коль в Лету
канет, то скорбеть мне перву.
Но из двух оправ - я эту
смело предпочел сему перлу.
Вы и краше и добрей. Вы тверже
тела моего. Вы проще
горьких моих дум, что тоже
много вам придаст сил, мощи.
Будут за все то вас, верю,
более любить, чем ноне
вашего творца. Все двери
настежь будут вам всегда. Но не
грустно эдак мне слыть нищу:
я войду в одне., вы - в тыщу.22 мая 1967
Атака птеродактилей на стадо
ихтиозавров.
Вниз на супостата
пикирует огнедышащий ящер -
скорей потомок, нежели наш пращур.Какой-то год от Рождества Христова.
Проблемы положенья холостого.
Гостиница.
И сотрясает люстру
начало возвращения к моллюску.Июнь 1967, Севастополь
Отказом от скорбного перечня - жест
большой широты в крохоборе! -
сжимая пространство до образа мест,
где я пресмыкался от боли,
как спившийся кравец в предсмертном бреду,
заплатой на барское платье
с изнанки твоих горизонтов кладу
на движимость эту заклятье!Проулки, предместья, задворки- любой
твой адрес - пустырь, палисадник, -
что избрано будет для жизни тобой,
давно, как трагедии задник,
настолько я обжил, что где бы любви
своей не воздвигла ты ложе,
все будет не краше, чем храм на крови,
и общим бесплодием схоже.Прими ж мой процент, разменяв чистоган
разлуки на брачных голубок!
За лучшие дни поднимаю стакан,
как пьет инвалид за обрубок.
На разницу в жизни свернув костыли,
будь с ней до конца солидарной:
не мягче на сплетне себе постели,
чем мне - на листве календарной.И мертвым я буду существенней для
тебя, чем холмы и озера:
не большую правду скрывает земля,
чем та, что открыта для взора!
В тылу твоем каждый растоптанный злак
воспрянет, как петел лядащий.
И будут круги расширятся, как зрак -
вдогонку тебе, уходящей.Глушеною рыбой всплывая со дна,
кочуя, как призрак - по требам,
как тело, истлевшее прежде рядна,
как тень моя, взапуски с небом,
повсюду начнет возвещать обо мне
тебе, как заправский мессия,
и корчится будут на каждой стене
в том доме, чья крыша - Россия.Июнь 1967
Октябрь - месяц грусти и простуд,
и воробьи - пролетарьят пернатых,
захватывают в брошенных пенатах
скворешники, как Смольный институт.
И воронье, конечно, тут как тут.Хотя вообще для птичьего ума
понятья нет страшнее, чем зима,
куда сильней страшится перелета
наш длинноносый северный Икар.
И потому пронзительное "карр!"
звучит для нас как песня патриота.1967
М. Б.
Ноябрьским днем, когда защищены
от ветра только голые деревья,
а все необнаженное дрожит,
я медленно бреду вдоль колоннады
дворца, чьи стекла чувствуют закат
и голубей, слетевшихся гурьбою
к заполненным окурками весам
слепой богини.
Старые часы
показывают правильное время.
Вода бурлит, и облака над парком
не знают толком, что им предпринять
и пропускают по ошибке солнце.1967
Я покидаю город, как Тезей -
свой Лабиринт, оставив Минотавра
смердеть, а Ариадну - ворковать
в объятьях Вакха.
Вот она, победа!
Апофеоз подвижничества! Бог
как раз тогда подстраивает встречу,
когда мы, в центре завершив дела,
уже бредем по пустырю с добычей,
навеки уходя из этих мест,
чтоб больше никогда не возвращаться.В конце концов, убийство есть убийство.
Долг смертных ополчаться на чудовищ.
Но кто сказал, что чудища бессмертны?
И, дабы не могли мы возомнить
себя отличными от побежденных,
Бог отнимает всякую награду,
(тайком от глаз ликующей толпы)
и нам велит молчать. И мы уходим.Теперь уже и вправду - навсегда.
Ведь если может человек вернуться
на место преступленья, то туда,
где был унижен, он придти не сможет.
И в этом пункте планы Божества
и наше ощущенье униженья
настолько абсолютно совпадают,
что за спиною остаются: ночь,
смердящий зверь, ликующие толпы,
дома, огни. И Вакх на пустыре
милуется в потемках с Ариадной.Когда-нибудь придется возвращаться...
Назад. Домой. К родному очагу.
И ляжет путь мой через этот город.
Дай Бог тогда, чтоб не было со мной
двуострого меча, поскольку город
обычно начинается для тех,
кто в нем живет,
с центральных площадей
и башен.
А для странника - с окраин.1967
I
Если кончу дни под крылом голубки,
что вполне реально, раз мясорубки
становятся роскошью малых наций -
после множества комбинаций
Марс перемещается ближе к пальмам;
а сам я мухи не трону пальцем
даже в ее апогей, в июле -
словом, если я не умру от пули,
если умру в постели, в пижаме,
ибо принадлежу к великой державе,II
то лет через двадцать, когда мой отпрыск,
не сумев отоварить лавровый отблеск,
сможет сам зарабатывать, я осмелюсь
бросить свое семейство - через
двадцать лет, окружен опекой
по причине безумия, в дом с аптекой
я приду пешком, если хватит силы,
за единственным, что о тебе в России
мне напомнит. Хоть против правил
возвращаться за тем, что другой оставил.III
Это в сфере нравов сочтут прогрессом.
Через двадцать лет я приду за креслом,
На котором ты предо мной сидела
в день, когда для Христова тела
завершались распятья муки -
в пятый день Страстной ты сидела, руки
скрестив, как Буонапарт на Эльбе.
И на всех перекрестках белели вербы.
Ты сложила руки на зелень платья,
не рискуя их раскрывать в объятья.IV
Данная поза, при всей приязни,
это лучшая гемма для нашей жизни.
И она отнюдь не недвижность. Это -
апофеоз в нас самих предмета:
замена смиренья простым покоем.
То есть, новый вид Христианства, коим
долг дорожить и стоять на страже
тех, кто, должно быть, способен даже
когда придет Гавриил с трубою,
мертвый предмет продолжать собою!V
У пророков не принято быть здоровым.
Прорицатели в массе увечны. Словом,
я не более зряч, чем Назонов Калхас.
Потому - прорицать все равно, что кактус
или львиный зев подносить к забралу.
Все равно, что учить алфавит по Брайлю.
Безнадежно. Предметов, по крайней мере,
на тебя похожих на ощупь в мире,
что называется, кот наплакал.
Каковы твои жертвы, таков оракул.VI
Ты, несомненно, простишь мне этот
гаерский тон. Это - лучший метод
сильные чувства спасти от массы
слабых. Греческий принцип маски
снова в ходу. Ибо в наше время
сильные гибнут. Тогда как племя
слабых - плодится и врозь и оптом.
Прими же сегодня, как мой постскриптум
к теории Дарвина, столь пожухлой,
эту новую правду джунглей.VII
Через двадцать лет - ибо легче вспомнить
то, что отсутствует, чем восполнить
это чем-то иным снаружи;
ибо отсутствие права хуже,
чем твое отсутствие - новый Гоголь,
насмотреться сумею, бесспорно, вдоволь,
без оглядки вспять, без былой опаски, -
как волшебный фонарь Христовой Пасхи
оживляет под звуки воды из крана
спинку кресла пустого, как холст экрана.VIII
В нашем прошлом величье, в грядущем - проза.
Ибо с кресла пустого не больше спроса,
чем с тебя, в нем сидевшей Ла Гарды тише,
руки сложив, как писал я выше.
Впрочем, в сумме своей наших дней объятья
много меньше раскинутых рук распятья.
Так что эта находка певца хромого
сейчас, на Страстной Шестьдесят Седьмого,
предо мной маячит подобьем вето
на прыжки в девяностые годы века.IХ
Если меня не спасет та птичка,
то-есть, если она не снесет яичка
и в сем лабиринте без Ариадны
(ибо у смерти есть варианты,
предвидеть которые - тоже доблесть)
я останусь один и, увы, сподоблюсь
холеры, доноса, отправки в лагерь -
но если только не ложь, что Лазарь
был воскрешен, то я сам воскресну.
Тем скорее, знаешь, приближусь к креслу.Х
Впрочем, спешка глупа и греховна. Vale!
То-есть некуда так поспешать. Едва ли
может крепкому креслу грозить погибель.
Ибо у нас на Востоке мебель
служит трем поколеньям кряду.
А я исключаю пожар и кражу.
Страшней, что смешать его могут с кучей
других при уборке. На этот случай
я даже сделать готов зарубки,
изобразив голубка голубки.ХI
Пусть теперь кружит, как пчелы ульев,
по общим орбитам столов и стульев
кресло твое по ночной столовой.
Клеймо - не позор, а основа новой
астрономии, что - перейдем на шепот -
подтверждает армейско-тюремный опыт:
заклейменные вещи - источник твердых
взглядов на мир у живых и мертвых.
Так что мне не взирать, как в подобны лица,
на похожие кресла с тоской Улисса.ХII
Я - не сборщик реликвий. Подумай, если
эта речь длинновата, что речь о кресле
только повод проникнуть в другие сферы.
Ибо от всякой великой веры
остаются, как правило, только мощи.
Так суди же о силе любви, коль вещи
те, к которым ты прикоснулась ныне,
превращаю - при жизни твоей - в святыни.
Посмотри: доказуют такие нравы
не величье певца, но его державы.ХIII
Русский орел, потеряв корону,
напоминает сейчас ворону.
Его, горделивый недавно, клекот
теперь превратился в картавый рокот.
Это - старость орлов или - голос страсти,
обернувшийся следствием, эхом власти.
И любовная песня - немногим тише.
Любовь - имперское чувство. Ты же
такова, что Россия, к своей удаче,
говорить не может с тобой иначе.ХIV
Кресло стоит и вбирает теплый
воздух прихожей. В стояк за каплей
падает капля из крана. Скромно
стрекочет будильник под лампой. Ровно
падает свет на пустые стены
и на цветы у окна, чьи тени
стремятся за раму продлить квартиру.
И вместе все создает картину
того в этот миг - и вдали, и возле -
как было до нас. И как будет после.ХV
Доброй ночи тебе, да и мне - не бденья.
Доброй ночи стране моей для сведенья
личных счетов со мной пожелай оттуда,
где посредством верст или просто чуда
ты превратишься в почтовый адрес.
Деревья шумят за окном, и абрис
крыш представляет границу суток...
В неподвижном теле порой рассудок
открывает в руке, как в печи, заслонку.
И перо за тобою бежит вдогонку.ХVI
Не догонит!.. Поелику ты как облак.
То-есть, облик девы, конечно, облик
души для мужчины. Не так ли, Муза?
В этом причины и смерть союза.
Ибо души - бесплотны. Ну что ж. Тем дальше
ты от меня. Не догонит!.. Дай же
на прощание руку. На том спасибо.
Величава наша разлука, ибо
навсегда расстаемся. Смолкает цитра.
Навсегда - не слово, а вправду цифра,
чьи нули, когда мы зарастем травою,
перекроют эпоху и век с лихвою.1967
Сын! Если я не мертв, то потому
что связок не щадя и перепонок,
во мне кричит все детское: ребенок
один страшится уходить во тьму.Сын! Если я не мертв, то потому,
что молодости пламенной - я молод -
с ее живыми органами холод
столь дальних палестин не по уму.Сын! Если я не мертв, то потому,
что взрослый не зовет себе подмогу.
я слишком горд, чтобы за то, что богу
предписывалось, браться самому.Сын! Если я не мертв, то потому,
что близость смерти ложью не унижу:
я слишком стар. Но и вблизи не вижу
там избавленья сердцу моему.Сын! Если я не мертв, то потому,
что знаю, что в Аду тебя не встречу.
Апостол же, чьей воле я перечу,
в Рай не позволит занести чуму.Сын! Я бессмертен. Не как оптимист.
Бессмертен как животное. Что строже.
Все волки для охотника - похожи.
А смерть - ничтожный физиономист.Грех спрашивать с разрушенных орбит!
Но лучше мне кривляться в укоризне,
чем быть тобой неузнанным при жизни.
Услышь меня: отец твой не убит.1967
Из пасти льва
струя не журчит и не слышно рыка.
Гиацинты цветут. Ни свистка, ни крика,
никаких голосов. Неподвижна листва.
И чужда обстановка сия для столь грозного лика,
и нова.
Пересохли уста,
и гортань проржавела: металл не вечен.
Просто кем-нибудь наглухо кран заверчен,
хоронящийся в кущах, в конце хвоста,
и крапива опутала вентиль. Спускается вечер;
из куста
сонм теней
выбегает к фонтану, как львы из чащи.
Окружают сородича, спящего в центре чаши,
перепрыгнув барьер, начинают носиться в ней,
лижут морду и лапы вождя своего. И, чем чаще,
тем темней
грозный облик. И вот
наконец он сливается с ними и резко
оживает и прыгает вниз. И все общество резво
убегает во тьму. Небосвод
прячет звезды за тучу, и мыслящий трезво
назовет
похищенье вождя -
так как первые капли блестят на скамейке -
назовет похищенье вождя приближеньем дождя.
Дождь спускает на землю косые линейки,
строя в воздухе сеть или клетку для львиной семейки
без узла и гвоздя.
Теплый
дождь
моросит.
Но, как льву, им гортань
не остудишь.
Ты не будешь любим и забыт не будешь.
И тебя в поздний час из земли воскресит,
если чудищем был ты, компания чудищ.
Разгласит
твой побег
дождь и снег.
И, не склонный к простуде,
все равно ты вернешься в сей мир на ночлег.
Ибо нет одиночества больше, чем память о чуде.
Так в тюрьму возвращаются в ней побывавшие люди
и голубки - в ковчег.1967
В пространстве, не дыша,
несется без дорог
еще одна душа
в невидимый чертог.А в сумраке, внизу
измученный сосуд
в кладбищенском лесу
две лошади везут.Отсюда не воззвать,
отсюда не взглянуть.
Расставшихся в кровать
больницы не вернуть.Простились без тоски
друг другу не грозя
при жизни не враги,
по смерти не друзья.Сомненья не унять.
Шевелится в груди
стремленье уравнять
столь разные пути.Пускай не объяснить
и толком не связать
пускай не возопить,
но шепотом сказать,что стынущий старик,
плывущий в темноте,
пронзительней, чем крик
"Осанна" в высоте.Поскольку мертвецы
не ангелам сродни
а наши близнецы.
Поскольку в наши днидоступнее для нас,
из вариантов двух,
страдание для глаз
бессмертия на слух.1967
День назывался "первым сентября".
Детишки шли, поскольку - осень, в школу.
А немцы открывали полосатый
шлагбаум поляков. И с гудением танки,
как ногтем - шоколадную фольгу,
разгладили улан.
Достань стаканы
и выпьем водки за улан, стоящих
на первом месте в списке мертвецов,
как в классном списке.
Снова на ветру
шумят березы и листва ложится,
как на оброненную конфедератку,
на кровлю дома, где детей не слышно.
И тучи с громыханием ползут,
минуя закатившиеся окна.1967
Как жаль, что тем, чем стало для меня
твое существование, не стало
мое существованье для тебя.
...В который раз на старом пустыре
я запускаю в проволочный космос
свой медный грош, увенчанный гербом,
в отчаянной попытке возвеличить
момент соединения... Увы,
тому, кто не умеет заменить
собой весь мир, обычно остается
крутить щербатый телефонный диск,
как стол на спиритическом сеансе,
покуда призрак не ответит эхом
последним воплям зуммера в ночи.1969
М.Б.
Провинция справляет Рождество.
Дворец Наместника увит омелой,
и факелы дымятся у крыльца.
В проулках - толчея и озорство.
Веселый, праздный, грязный, очумелый
народ толпится позади дворца.Наместник болен. Лежа на одре,
покрытый шалью, взятой в Альказаре,
где он служил, он размышляет о
жене и о своем секретаре,
внизу гостей приветствующих в зале.
Едва ли он ревнует. Для негосейчас важней замкнуться в скорлупе
болезней, снов, отсрочки перевода
на службу в Метрополию. Зане
он знает, что для праздника толпе
совсем не обязательна свобода;
по этой же причине и женеон позволяет изменять. О чем
он думал бы, когда б его не грызли
тоска, припадки? Если бы любил?
Невольно зябко поводя плечом,
он гонит прочь пугающие мысли.
...Веселье в зале умеряет пыл,но все-же длится. Сильно опьянев,
вожди племен стеклянными глазами
взирают в даль, лишенную врага.
Их зубы, выражавшие их гнев,
как колесо, что сжато тормозами,
застряли на улыбке, и слугаподкладывает пищу им. Во сне:
кричит купец. Звучат обрывки песен.
Жена Наместника с секретарем
выскальзывают в сад. И на стене
орел имперский, выклевавший печень
Наместника, глядит нетопырем...И я, писатель, повидавший свет,
пересекавший на осле экватор,
смотрю в окно на спящие холмы
и думаю о сходстве наших бед:
его не хочет видеть Император,
меня - мой сын и Цинтия. И мы,мы здесь и сгинем. Горькую судьбу
гордыня не возвысит до улики,
что отошли от образа Творца.
Все будут одинаковы в гробу.
Так будем хоть при жизни разнолики!
Зачем куда-то рваться из дворца -отчизне мы не судьи. Меч суда
погрязнет в нашем собственном позоре:
наследники и власть в чужих руках...
Как хорошо, что не плывут суда!
Как хорошо, что замерзает море!
Как хорошо, что птицы в облакахсубтильны для столь тягостных телес!
Такого не поставишь в укоризну.
Но может быть находится как раз
к их голосам в пропорции наш вес.
Пускай летят поэтому в отчизну.
Пускай орут поэтому за нас.Отечество... чужие господа
у Цинтии в гостях над колыбелью
склоняются, как новые волхвы.
Младенец дремлет. Теплится звезда,
как уголь под остывшею купелью.
И гости, не коснувшись головы,нимб заменяют ореолом лжи,
а непорочное зачатье - сплетней,
фигурой умолчанья об отце...
Дворец пустеет. Гаснут этажи.
Один. Другой. И, наконец, последний.
И только два окна во всем дворцегорят: мое, где, к факелу спиной,
смотрю, как диск луны по редколесью
скользит и вижу - Цинтию, снега;
Наместника, который за стеной
всю ночь безмолвно борется с болезнью
и жжет огонь, чтоб различить врага.Враг отступает. Жидкий свет зари,
чуть занимаясь на Востоке мира,
вползает в окна, норовя взглянуть
на то, что совершается внутри,
и, натыкаясь на остатки пира,
колеблется. Но продолжает путь.Январь 1968, Паланга
E. R.
Я выпил газированной воды
под башней Белорусского вокзала
и оглянулся, думая куды
отсюда бросить кости. Вылезала
из-под домов набрякшая листва.
Из метрополитеновского горла
сквозь турникеты масса естества
как черный фарш из мясорубки перла.
Чугунного Максимыча спина
маячила, жужжало мото - вело,
неслись такси, грузинская шпана
вцепившись в розы, бешено ревела.
Из-за угла несло нашатырем,
лаврентием и средствами от зуда.
И я был чужд себе и четырем
возможным направлениям отсюда,
Красавица уехала.
Ни слез,
ни мыслей, настигающих подругу.
Огни, столпотворение колес,
пригодных лишь к движению по кругу.18 июля 1968, Москва
В былые дни и я пережидал
холодный дождь под колоннадой Биржи.
И полагал, что это - Божий дар.
И, может быть, не ошибался. Был же
и я когда-то счастлив. Жил в плену
у ангелов. Ходил на вурдалаков.
Сбегавшую по лестнице одну
красавицу в парадном, как Иаков,
подстерегал.
Куда-то навсегда
ушло все это. Спряталось. Однако,
смотрю в окно и, написав "куда",
не ставлю вопросительного знака.
Теперь сентябрь. Передо мною - сад.
Далекий гром закладывает уши.
В густой листве налившиеся груши,
как мужеские признаки, висят.
И только ливень в дремлющий мой ум,
как в кухню дальних родственников-скаред,
мой слух об эту пору припускает:
не музыку еще, уже не шум.осень 1968
Самолет летит на Вест,
расширяя круг тех мест
- от страны к другой стране, -
где тебя не встретить мне.Обгоняя дни, года,
тенью крыльев "никогда"
на земле и на воде
превращается в "нигде".Эта боль сильней, чем та:
слуху зренье не чета,
ибо время - область фраз,
а пространство - пища глаз.На лесах, полях, жилье,
точно метка - на белье,
эта тень везде - хоть плачь
оттого, что просто зряч.Частокол застав, границ
- что горе воззреть, что ниц, -
как он выглядит с высот,
лепрозорий для двухсот
миллионов?1968
Сатир, покинув бронзовый ручей,
сжимает канделябр на шесть свечей,
как вещь,принадлежащую ему.
Но, как сурово утверждает опись,
он сам принадлежит ему. Увы,
все виды обладанья таковы.
Сатир - не исключенье. Посему
в его мошонке зеленеет окись.Фантазия подчеркивает явь.
А было так: он перебрался вплавь
через поток, в чьем зеркале давно
шестью ветвями дерево шумело.
Он обнял ствол. Но ствол принадлежал
земле. А за спиной уничтожал
следы поток. Просвечивало дно.
И где-то щебетала Филомела.Еще один продлись все это миг,
сатир бы одиночество постиг,
ручьям свою ненужность и земле;
но в то мгновенье мысль его ослабла.
Стемнело. Но из каждого угла
"Не умер" повторяли зеркала.
Подсвечник воцарился на столе,
пленяя завершенностью ансамбля.Нас ждет не смерть, а новая среда.
От фотографий бронзовых вреда
сатиру нет. Шагнув за Рубикон,
он затвердел от пейс до гениталий.
Наверно, тем искусство и берет,
что только уточняет, а не врет,
поскольку основной его закон,
бесспорно, независимость деталей.Зажжем же свечи. Полно говорить,
что нужно чей-то сумрак озарить.
Никто из нас другим не властелин,
хотя поползновения зловещи.
Не мне тебя, красавица, обнять.
И не тебе в слезах меня пенять;
поскольку заливает стеарин
не мысли о вещах, но сами вещи.1968
F.W.
На Прачечном мосту, где мы с тобой
уподоблялись стрелкам циферблата,
обнявшимся в двенадцать перед тем,
как не на сутки, а навек расстаться,
- сегодня здесь, на Прачечном мосту,
рыбак, страдая комплексом Нарцисса,
таращится, забыв о поплавке,
на зыбкое свое изображенье.Река его то молодит, то старит.
То проступают юные черты,
то набегают на чело морщины.
Он занял наше место. Что ж, он прав!
С недавних пор все то, что одиноко,
символизирует другое время;
а это - ордер на пространство.
Пусть
он смотрится спокойно в наши воды
и даже узнает себя. Ему
река теперь принадлежит по праву,
как дом, в который зеркало внесли,
но жить не стали.1968
Просыпаюсь по телефону, бреюсь,
чищу зубы, харкаю, умываюсь,
вытираюсь насухо, ем яйцо.
Утром есть что делать, раз есть лицо.
Поздно вечером он говорит подруге,
что зримо лучше всего на Юге;
она, пристегивая чулок,
глядит в потолок.
В этом году в феврале собачий
холод. Птицы чернорабочей
крик сужает Литейный мост.
Туча вверху,
как отдельный мозг.1968
I
На прощанье - ни звука.
Граммофон за стеной.
В этом мире разлука -
лишь прообраз иной.
Ибо врозь, а не подле
мало веки смежать
вплоть до смерти. И после
нам не вместе лежать.II
Кто бы ни был виновен,
но, идя на правеж,
воздаяния вровень
с невиновными ждешь.
Тем верней расстаемся,
что имеем в виду,
что в Раю не сойдемся,
не столкнемся в Аду.III
Как подзол раздирает
бороздою соха,
правота разделяет
беспощадней греха.
Не вина, но оплошность
разбивает стекло.
Что скорбеть, расколовшись,
что вино утекло?IV
Чем тесней единенье,
тем кромешней разрыв.
Не спасет затемненья
ни рапид, ни наплыв.
В нашей твердости толка
больше нету. В чести -
одаренность осколка,
жизнь сосуда вести.V
Наполняйся же хмелем,
осушайся до дна.
Только емкость поделим,
но не крепость вина.
Да и я не загублен,
даже ежели впредь,
кроме сходства зазубрин,
общих черт не узреть.VI
Нет деленья на чуждых.
Есть граница стыда
в виде разницы в чувствах
при словце "никогда".
Так скорбим, но хороним;
переходим к делам,
чтобы смерть, как синоним,
разделить пополам.VII
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .VIII
Невозможность свиданья
превращает страну
в вариант мирозданья,
хоть она в ширину,
завидущая к славе,
не уступит любой
залетейской державе;
превзойдет голытьбой.IХ
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .Х
Что ж без пользы неволишь
уничтожить следы?
Эти строки всего лишь
подголосок беды.
Обрастание сплетней
подтверждает к тому ж:
расставанье заметней,
чем слияние душ.ХI
И, чтоб гончим не выдал
- ни моим, ни твоим -
адрес мой храпоидол
или твой - херувим,
на прощанье - ни звука;
только хор Аонид.
Так посмертная мука
и при жизни саднит.1968
Так долго вместе прожили, что вновь
второе января пришлось на вторник,
что удивленно поднятая бровь,
как со стекла автомобиля - дворник,
с лица сгоняла смутную печаль,
незамутненной оставляя даль.Так долго вместе прожили, что снег
коль выпадет, то думалось - навеки,
что, дабы не зажмуривать ей век,
я прикрывал ладонью их, и веки
не веря, что их пробуют спасти,
метались там, как бабочки в горсти.Так чужды были всякой новизне,
что тесные объятия во сне
бесчестили любой психоанализ;
что губы, припадавшие к плечу,
с моими, задувавшими свечу,
не видя дел иных, соединялись.Так долго вместе прожили, что роз
семейство на обшарпанных обоях
сменилось целой рощею берез,
и деньги появились у обоих,
и тридцать дней над морем, языкат,
грозил пожаром Турции закат.Так долго вместе прожили без книг,
без мебели, без утвари, на старом
диванчике, что - прежде, чем возник -
был треугольник перпендикуляром,
восставленным знакомыми стоймя
над слившимися точками двумя.Так долго вместе прожили мы с ней,
что сделали из собственных теней
мы дверь себе - работаешь ли, спишь ли,
но створки не распахивались врозь,
и мы прошли их, видимо, насквозь
и черным входом в будущее вышли.1968
М.Б.
Подруга милая, кабак все тот же,
все та же дрянь красуется на стенах,
все те же цены. Лучше ли вино?
Не думаю; не лучше и не хуже.
Прогресса нет, и хорошо, что нет.Пилот почтовой линии, один,
как падший ангел, глушит водку. Скрипки
еще по старой памяти волнуют
мое воображение. В окне
маячат белые, как девство, крыши,
и колокол гудит. Уже темно.Зачем лгала ты? И зачем мой слух
уже не отличает лжи от правды,
а требует каких-то новых слов,
неведомых тебе - глухих, чужих,
но быть произнесенными могущих,
как прежде, только голосом твоим.1968
I
ГОРБУНОВ И ГОРЧАКОВ
"Ну, что тебе приснилось, Горбунов?"
"Да, собственно, лисички"."Снова?" "Снова."
"Ха-ха, ты насмешил меня, нет слов."
"А я не вижу ничего смешного.
Врач говорит: основа всех основ -
нормальный сон." "Да ничего дурного
я не хотел...хоть сон, того, не нов."
"А что попишешь, если нет иного?"
"Мы, ленинградцы, видим столько снов,
а ты никак из этого, грибного,не вырвешься." "Скажи мне, Горчаков,
а что вам, ленинградцам, часто снится?"
"Да как когда...Концерты, лес смычков.
Проспекты, переулки. Просто лица.
(Сны состоят как будто из клочков.)
Нева, мосты. А иногда - страница,
и я ее читаю без очков!
(Их отбирает перед сном сестрица.)"
"Да, этот сон сильней моих зрачков!"
"Ну что ты? Часто снится и больница.""Не нужно жизни. Знай себе, смотри.
Вот это сон! И вправду день не нужен.
Такому сну мешает свет зари.
И как, должно быть, злишься ты, разбужен...
Проклятие, Мицкевич! Не ори!..
Держу пари, что я проспал бы ужин."
"Порой мне также снятся снегири.
Порой ребенок прыгает по лужам.
И это - я..." "Ну что ж ты, говори.
Чего ты смолк?" "Я, кажется, простужен.Тебе зачем все это?" "Просто так."
"Ну вот, я говорю, мне снится детство.
Мы с пацанами лезем на чердак.
И снится старость. Никуда не деться
от старости...Какой-то кавардак:
старик, мальчишка..." "Грустное соседство."
"Ну, Горбунов, какой же ты простак!
Ведь эти сновиденья только средство
ночь провести поинтересней." "Как?!"
"Чтоб ночью дня порастрясти наследство.""Ты говоришь "наследство"? Вот те на!
Позволь, я обращусь к тебе с вопросом:
а как же старость? Старость не видна.
Когда ж это ты был седоволосым?"
"Зачем хрипит Бабанов у окна?
Зачем Мицкевич вертится под носом?
На что же нам фантазия дана?
И вот, воображеньем, как насосом,
я втягиваю старость в царство сна.""Но, Горчаков, тогда прости, не ты,
не ты себе приснишься." "Истуканов,
тебе подобных, просто ждут Кресты,
и там не выпускают из стаканов!
А кто ж мне снится? Что молчишь? В кусты?"
"Гор-кевич. В лучшем случае, Гор-банов."
"Ты спятил, Горбунов!" "Твои черты,
их - седина; таких самообманов
полно и наяву до тошноты."
"Ходить тебе в пижаме без карманов.""Да я и так в пижаме без кальсон."
"Порой мне снится печка, головешки..."
"Да, Горчаков, вот это сон так сон!
Проспекты, разговоры. Просто вещи.
Рояль, поющий скрипке в унисон.
И женщины. И может, что похлеще."
"Вчера мне снился стол на шесть персон."
"А сны твои, они бывают вещи?
Иль попросту все мчится колесом?"
"Да как сказать; те - вещи, те - зловещи.""Фрейд говорит, что каждый - пленник снов."
"Мне говорили: каждый - раб привычки.
Ты ничего не спутал, Горбунов?"
"Да нет, я даже помню вид странички."
"А Фрейд не врет?" "Ну, мало ли врунов...
Но вот, допустим, хочется клубнички..."
"То самое, в штанах?" "И без штанов.
А снится, что клюют тебя синички.
Сны откровенней всех говорунов."
"А как же, Горбунов, твои лисички?""Мои лисички - те же острова.
(Да и растут лисички островками.)
Проспекты те же, улочки, слова.
Мы говорим, как правило, рывками.
Подобно тишине, меж них - трава.
Но можно прикоснуться к ним руками!
Отсюда их обширные права,
и кажутся они мне поплавками,
которые несет в себе Нева,
того, что у меня под башмаками.""Так значит, ты одни из рыбаков,
которые способны бесконечно
взирать на положенье поплавков,
не правда ли?" "Пока что безупречно."
"А в сумерках конструкции крючков
прикидывать за ужином беспечно?"
"И прятать по карманам червяков!"
"Боюсь, что ты застрянешь здесь навечно."
"Ты хочешь огорчить меня?" "Конечно.
На то я, как известно, Горчаков."II
ГОРБУНОВ И ГОРЧАКОВ
"Ты ужинал?" "Да, миска киселя
и овощи." "Ну, все повеселее.
А что снаружи?" "Звездные поля."
"Смотрю, в тебе замашки Галилея."
"Вторая половина февраля
отмечена уходом Водолея,
и Рыбы водворяются, суля,
что скоро будет в реках потеплее."
"А что земля?" "Что, собственно, земля?"
"Ну, что внизу?" "Больничная аллея.""Да, знаешь, ты действительно готов.
Ты метишь, как я чувствую, в Ньютоны.
На буйном тоже некий Хомутов
- кругом галдеж, блевотина и стоны -
твердит: я - Гамильтон, и я здоров;
а сам храпит, как наши харитоны."
"Шло при Петре строительство портов,
и наезжали разные тевтоны.
Фамилии нам стоили трудов.
Возможно, Хомутовы - Гамильтоны.""Натоплено, а чувствую озноб."
"Напрасно ты к окошку прислонился."
"Из-за твоих сверкающих зазноб."
"Ну что же, убедился?" "Усомнился.
Я вижу лишь аллею и сугроб."
"Вон Водолей с кувшином наклонился."
"Нам телескоп иметь здесь хорошо б."
"Да, хорошо б." "И ты б угомонился."
"Что?! Телескоп?! На кой мне телескоп!"
"Ну, Горбуновю, чего ты взбеленился?""С ногами на постель мою ты влез.
Я думаю, что мог бы потрудиться
снять шлепанцы." "Но холодно мне без,
без шлепанцев. Не следует сердиться.
я зябну потому, что интерес
к сырым лисичкам в памяти гнездится."
"Не снился Фрейду этакий прогресс!
Прогресса же не следует стыдиться:
приснится активисту мокрый лес,
а пассивист способен простудиться.""Лисички не безвредны, и по мне,
они враги душевному здоровью.
Ты ценишь их?" "С любовью наравне."
"А что ты понимаешь под любовью?"
"Разлуку с одиночеством." "Вполне?"
"Возможность наклониться к изголовью
и к жизни прикоснуться в тишине
дыханием, руками или бровью..."
"На что ты там уставился в окне?"
"Само сопротивленье суесловью.""Не дашь ли ты мне яблока?" "Лови."
"Ну, что твои лисички-невилички?"
"Я думаю обычно о любви
всегда, когда смотрю я на лисички.
Не знаю, где - в уме или в крови -
но чувствуешь подобье переклички."
"Привычка и нормальное, увы,
стремление рассудка к обезличке."
"То область рук. А в сфере головы -
отсутствие какой-либо привычки.""И, стало быть, во сне, когда темно,
ты грезишь о лисичках?" "Постоянно."
"Вернее, о любви?" "Ну все равно.
По-твоему, наверно, это странно?"
"Не странно, а, по-моему, грешно.
Грешно и, как мне думается, срамно!
Чему ты улыбаешься?" "Смешно."
"Не дашь ли ты мне яблока?" "Я дам, но
понять тебе лисичек не дано."
"Лисички - это, знаешь, полигамно.""Вот, я тебя разделал под орех!
Есть горечь в горчаковской укоризне."
"Зачем ты говоришь, что это грех?
Грех - то, что наказуемо при жизни.
А как накажешь, если стрелы всех
страданий жизни собрались, как в призме,
в моей груди? Мне мнится без помех
грядущее." "Мы, стало быть, на тризне
пристуствуем?" "И, стало быть, мой смех
сегодня говорит об оптимизме.""А Страшный Суд?" "А он - движенье вспять
в воспоминанья. Как в кинокартине.
Да что там Апокалипсис! Лишь пять,
пять месяцев в какой-нибудь пустыне.
А я пол-жизни протрубил и спать
с лисичками мне хочется отныне.
Я помню то, куда мне отступать
от Огненного Ангела Твердыни..."
"Боль сокрушит гордыню." "Ни на пядь;
боль напитала дерево гордыни.""Ты, значит, не боишься темноты?"
"В ней есть ориентиры." "Поклянись мне."
"И я с ориентирами на ты.
Полно ориентиров, только свистни."
"Находчивость - источник суеты."
"Я не уверен в этом афоризме.
Душа не ощущает тесноты."
"Ты думаешь? А в мертвом организме?"
"Я думаю, душа за время жизни
приобретает смертные черты."III
ГОРБУНОВ В НОЧИ
"Больница. Ночь. Враждебная среда...
Все это не трагедия...К тому же
и приговоры Страшного Суда
тем легче для души моей, чем хуже
ей было во плоти моей...Всегда,
когда мне скверно, думаю, что ту же
боль вынесу вторично без труда.
Так мальчика прослеживают в муже...
Лисички занесли меня сюда.
А то, что с ними связано, снаружи.Они теперь мне снятся. А жена
не снится мне. И правильно, где тонко,
там рвется. Эта мысль не лишена...
Я сделал ей намернно ребенка.
Я думал, что останется она.
Хоть это - психология подонка.
Но, видимо, добрался я до дна.
Не знаю, как душа, а перепонка
цела. Я слышу шелест полотна.
Поет в зубах Бабанова гребенка...Я голос чей-то слышу в тишине.
Но в нем с галлюцинациями слуха
нет общего: давление на дне -
давление безвредное для уха.
И голос тот противоречит мне.
Уверенно, настойчиво и глухо.
Кому принадлежит он? Не жене.
Не ангелам. Поскольку царство духа
безмолвствует с женою наравне.
Жаль, нет со мною старого треуха!Больничная аллея. Ночь. Сугроб.
Гудит ольха, со звездами сражаясь.
Из-за угла в еврейский телескоп
глядит медбрат, в жида преображаясь.
Сужается постель моя, как горб.
Хрусталик с ней сражается, сужаясь.
И кровь шумит, как клюквенный сироп.
И щиколотки стынут, обнажаясь.
И делится мой разум, как микроб,
в молчанье безгранично размножаясь!Она ушла. Я одержим собой.
Собой? А не позвать ли Горчакова?
Эй, Горчаков!..Да нет, уже отбой.
Да так ли это, впрочем, бестолково,
когда одни уста наперебой
поют двоих в отсутствии алькова?
Я сам слежу за собственной губой.
Их пополам притягивает слово.
Я - круг в сеченье. Стало быть, любой
из нас двоих - магнитная подкова.Ночь. Губы на два голоса поют.
Ты думаешь, не много ли мне чести?
Но в этом есть особенный уют:
пускай противоречие, но вместе.
Они почти семейство создают
в молчанье. А тем более - в присесте.
Возлюбленному верхняя приют.
А нижняя относится к невесте.
Но то, что на два делится, то тут
разделится, бесспорно, и на двести.А все, что увеличилось вдвойне,
приемлемо и больше не ничтожно.
Проблему одиночества вполне
решить за счет раздвоенности можно.
Отчаянье раскачивает мне,
как доску, душу надвое, как нож, но
не я с ним остаюсь наедине.
А если двоедушие безбожно,
то не дрова нуждаются в огне,
а греет то, что противоположно.Ты, Боже, если властен сразу двум,
двум голосам внимать, притом бегущим
из уст одних,и видеть в них не шум,
а вид борьбы минувшего с грядущим,
восхить к Себе мой кашляющий ум,
микробы расселив его по кущам,
и сумму дней и судорожных дум
Ты раздели им жестом всемогущим.
А мне оставь, как разность этих сумм,
победу над молчаньем и удушьем.А ежели мне впрямь необходим
здесь слушатель, то, Господи, не мешкай:
пошли мне небожителя. Над ним
ни болью не возвышусь, ни усмешкой,
поскольку он для них неуязвим.
По мне, коль оборачиваться решкой,
то пусть не Горчаков, а херувим
возносится над грязною ночлежкой
и кружит над рыданьями и слежкой
прямым благословением Твоим."IY
ГОРЧАКОВ И ВРАЧИ
"Ну, Горчаков, давайте ваш доклад."
"О Горбунове?" "Да, о Горбунове."
"Он выражает беспартийный взгляд
на вещи, на явления - в основе
своей диалектический; но ряд -
но ряд его высказываний внове
для нас." "Они, бесспорно, говорят
о редкостной насыщенности крови
азотом, разложившим аппарат
самоконтроля." "Сросшиеся брови,ассиметричность подбородка, жир
на подбородке. Нос его расцвечен
сосудами, раздавшимися вширь..."
"Я думаю, разрушенная печень."
"Компрессами и путаницей жил
ассиметричный лоб его увенчан.
Лисички - его слабость и кумир.
Он так непривлекателен для женщин,
- "Преувеличен внутренний наш мир,
а внешний, соответственно, уменьшен" -вот характерный для него язык.
В таких вот выражениях примерных
свой истинный показывает лик
сторонник непартийных, эфемерных
воззрений..." "В этом чувствуется сдвиг
налево от открытий достоверных
марксизма." "Недостаточно улик."
"А как насчет явлений атмосферных?"
"А он отвык от женщины?" "Отвык.
В нем нет телодвижений, характерныхдля этого...ну как его...ах ты!..!
"Спокойно, Горчаков!" "...для женолюба."
"А как он там...ну, в смысле наготы?..
Там органы и прочее?" "Сугубо,
сугубо от нужды и до нужды.
Простите, что высказываюсь грубо."
"Ну что вы! Не хотите ли воды?"
"Воды?" "А вы хотели коньяку бы?"
"Не признаю я этой ерунды."
"Зачем же вы облизывали губы?""Не знаю...Что-то связано с водой."
"Что именно?" "Не помню, извините."
"Наверное, стакан перед едой?"
"Да нет же, вы мне спутали все нити...
Постойте, вижу...человек...худой...
вокруг - пустыня...Азия...взгляните:
ползут пески татарскою ордой,
пылает солнце...как его?..в зените.
Он окружен враждебною средой...
И вдруг - колодец..." "Дальше! Не тяните!""А дальше вновь все пусто и мертво.
Колодец...это самое...сокрылся."
"Эй, Горчаков! Что с вами?" "Я...того.
Я, знаете, того...заговорился.
Во всем великолепье своего
идеализма нынче он раскрылся."
"Кто? Горбунов?" "Ну да, я про него.
Простите мне, товарищи, что сбился."
"Нет-нет, вы продолжайте. Ничего."
"Я слишком в Горбунова углубился...Он - беспартийный, вот его беда!
И если день особенно морозен,
он сильно отклоняется туда...
ну, влево, к отопленью..." "Грандиозен!"
"А он религиозен?" "О, да-да!
Он так религио...религиозен!
Я даже опасаюсь иногда:
того гляди, что бухнется он оземь
и станет Бога требовать сюда."
"Он так от беспартийности нервозен.""Он влево уклоняется." "Ха-ха!"
"Чему вы усмехаетесь, коллега?"
"Тому, что это, в общем, чепуха:
от Горчакова батареи слева,
от Горбунова, стало быть.." "Ага!
Как в шахматах? Король и королева?
Напротив!" "Справедливо." "От греха
запишем, так сказать, для подогрева
два мнения." "Идея неплоха."
"Какая ж это песня без припева?Ну вот и заключение...шнурков!
подшить!..Эй, Гочаков, вы не могли бы
автограф свой?" "Я нынче без очков."
"Мои не подойдут?" "Да подошли бы.
Так: "влево уклоняется"...каков!
..."и вправо"...справедливо! Справедливы
два мнения. Мы этих барчуков...
Одно из двух: мы выкурим их, либо..."
"Спасибо вам, товарищ Горчаков.
На Пасху мы вас выпустим." "Спасибо.Да-да. Благодарю. Благодарить...
Не сделать ли поклона поясного?...
Где Горбунов?! Глаза ему раскрыть!..
О, ужас, я же истины - ни слова...
Да, собственно, откуда эта прыть?
Плевать на параноика лесного!
Уток теряет собственную нить,
когда под ним беснуется основа.
Как странно Горчакову говорить
безумнымаи словами Горбунова!"Y
ПЕСНЯ В ТРЕТЬЕМ ЛИЦЕ
"И он ему сказал." "И он ему
сказал." "И он сказал." "И он ответил."
"И он сказал." "И он." "И он во тьму
воззрился и сказал.""Слова на ветер."
"И он ему сказал." "Но, так сказать,
сказать "сказал" сказать совсем не то, что
он сам сказал." "И он "к чему влезать
в подробности" сказал, все ясно. Точка."
"Один сказал другой сказал струит."
"Сказал греха струит сказал к веригам."
"И молча на столе сказал стоит."
"И, в общем, отдает татарским игом."
"И он ему сказал." "А он связал
и свой сказал и тот, чей отзвук замер."
"И он сказал." "Но он тогда сказал."
"И он ему скзал, и время занял.""И он сказал." "Вот так булыжник вдруг
швыряют в пруд. Круги - один, четыре..."
"И он сказал." "И это - тот же круг,
но радиус его, бесспорно, шире."
"Сказал - кольцо." "Сказал - еще кольцо."
"И вот его сказал уткнулся в берег."
"И собственный сказал толкнул в лицо,
вернувшись вспять." "И больше нет Америк."
"Сказал." "Сказал." "Сказал." "Сказал." "Сказал."
"Суть поезда." "Все дальше, дальше рейсы."
"И вот уже сказал почти вокзал."
"Никто из них не хочет лечь на рельсы."
"И он сказал." "А он сказал в ответ."
"Сказал исчез." "Сказал пришел к перрону."
"И он сказал." "Но раз сказал - предмет,
то также относиться должно к ону.""И он ему." "И он." "И он ему."
"И я готов считать, что вечер начат."
"И он ему." "И все это к тому,
что оба суть одно взаимно значат."
"Он, собственно, вопрос." "Ему - ответ."
"Потом ноаборот." "И нет различья."
"Конечно, между ними есть просвет."
"Но лишь как средство избежать двуличья."
"Он кем (ему) приходится ему?"
"И в неживой возможны ли природе
сношенья неподсудные уму?"
"Пусть не родня обычная, но вроде?"
"Чего не разберет судебный зал!
Сидит судья; очки его без стекол."
"Он кто ему?" "Да он ему - сказал."
"И это грандиознее, чем свекор.""Огромный дом. Слепые этажи.
Два лика, побледневшие от вони."
"Они не здесь." "А где они, скажи?"
"Где? В он-ему-сказале или в оне."
"Огромный дом. Фигуры у окна.
И гомон, как под сводами вокзала.
Когда здесь наступает тишина?"
"Лишь в промежутках он-ему-сказала."
"Сказала, знаешь, требует она."
"Но это же сказал во время она."
"А все-таки приятна тишина."
"Страшнее, чем анафема с амвона."
"Так, значит, тут страшатся тишины?"
"Да нет; как обстоятельствами места
и времени, все объединены
сказалом наподобие инцеста.""И это образ действия?" "О да.
Они полны сношеньями своими."
"Когда они умолкнут?" "Никогда."
"Наверное, как собственное имя."
"Да, собственное имя - концентрат.
Оно не допускает переносов,
замен преображений и утрат."
"И это, в общем, двигатель вопросов."
"Вот именно! И косвенная речь
в действительности - самая прямая."
"И этим невозможно пренебречь
без личного ущерба." "И, внимая,
тому, что Он Сказал произнесет,
как дети у церковного притвора,
мы как бы приобщаемся высот,
достигнутых еще до разговора.""Что вам приснилось Он Ему Сказал?"
"Кругом - врачи." "Рассказывать подробно."
"Мне ночью снился океанский вал.
Мне снилось море." "Неправдоподобно!"
"Должно быть, он забыл уже своих
лисичек." "Невозможно!" "Вероятно."
"Да нет, он отвечает за двоих."
"И это уж, конечно, необъятно."
"Я видел сонмы сумеречных вод.
Отчетливо и ясно. Но при этом,
я видел столь же ясно небосвод..."
"И это вроде выстрела дуплетом."
"И гребни, словно гривы жеребцов,
расставшихся с утопленной повозкой."
"А не было там, знаете, гребцов,
утопленников?" "Я не Айвазовский.
Я видел гребни пенившихся круч.
И берег - как огромная подкова...
И Он Сказал носился между туч
с улыбкой Горбунова, Горчакова."VI
ГОРБУНОВ И ГОРЧАКОВ
"Ну, что тебе приснилось? Говори."
"Да я ж тебе сказал о разговоре
с комиссией." "Да брось ты, не хитри.
Я сам его подслушал в коридоре."
"Ну вот, я говорю..." "Держу пари,
ты станешь утверждать, что снится море."
"Да, море, разумеется." "Не ври,
не верю." "Не настаиваю. Горе
невелико." "Ты только посмотри,
как залупился! Истинно на вореи шапка загорается." "Ну, брось."
"Чего ж это я брошу, интересно?"
"Да я же, Горчаков, тебя насквозь..."
"Нашелся рентгенолог!" "Неуместно
подшучиваешь. Как бы не пришлось
раскаиваться." "Выдумаешь!" "Честно.
Как только мы оказывались врозь,
комиссии вдруг делалось известно,
о чем мы тут...Сексотничал, небось?
Чего же ты зарделся, как невеста?"Ты сердишься?" "Да нет, я не сержусь."
"Не мучь меня!" "Что, я - тебя? Занятно!"
"Ты сердишься." "Ну хочешь, побожусь?"
"Тебе же это будет неприятно."
"Да нет, я не особенно стыжусь."
"Вот это уже искренне." "Обратно
за старое? Неужто я кажусь
тебе достойным слежки? Неопнятно."
"А что ж не побожился?" "Я боюсь,
что ты мне не поверишь." "Вероятно,
Не дочка, не жена,
а Горчаков!" "Все дело в эгоизме."
"Да Горчаков ли?" "Форма не важна.
Эй, Горбунов, а ну-ка, покажись мне.
Твоя, ты знаешь, участь решена."
"А Горчаков?" "Предайся укоризне:
отныне вам разлука суждена.
Отпустим. Не вздыхай об этом слизне.
да поздорову..."
"Чего ты там таращишься во тьму?"
"Уланову я вижу и Орлову.""Я, знаешь ли, смотаюсь в коридор."
"Зачем?" "Да так, покалывает темя."
"Зачем ты вечно спрашиваешь?" "Вздор!"
"Что, истины выискиваешь семя?"
"Ты тоже ведь таращишься во двор."
"Сексотишь, ветоятно, сучье племя."
"Я просто расширяю кругозор."
"Не веря?" "Недоверчивость не бремя.
Ты знаешь, и донос, и разговор -
все это как-то скрашивает время.""А время как-то скрашивает дни."
"Вот, кажется, и темя отпустило...
Ну, что тебе приснилось, не темни!"
"А, все это тоскливо и постыло...
Ты лучше посмотрел бы на огни."
"Ну, тени от дощатого настила..."
"Орлова! и Уланова в тени..."
"Ты знаешь, как бы кофе не остыло."
"Война была, ты знаешь, и они
являлись как бы символами тыла.""Вторая половина февраля.
Смотри-ка, что показывают стрелки."
"Я думаю, лишь радиус нуля."
"А цифры?" "Как бордюрчик на тарелке...
Сервиз я видел, сделанный а ля
Мейсенские..." "Мне нравятся подделки."
"Там надпись: "мастерская короля"
и солнце - вроде газовой горелки."
"Сейчас я взял бы вермуту." "А я
сейчас не отказался бы от грелки...Смотри, какие тени от куста!"
"Прости, но я материю все ту же...
те часики..." "Обратно неспроста?"
"Ты судишь обо мне гораздо хуже,
чем я того..." "Виной твои уста."
"Неужто ж ноль?" "Ага." "Но почему же?"
"Да просто так; снаружи - пустота."
"Зато внутри теплее, чем снаружи."
"Ну, эти утепленные места
являются лишь следствиями стужи.""А как же быть со штабелями дров?"
"Наверное, связующие звенья...
О, Господи, как дует из углов!
И холодно, и голоден как зверь я."
"Болезни - это больше докторов."
"Подворье грандиознее преддверья."
"Но все-таки, ты знаешь, это кров."
"Давай-ка, Горчаков, без лицемерья;
и знай - реальность высказанных слов
огромней, чем реальность недоверья.""Да, стужа грандиознее тепла."
"А время грандиознее, чем стрелка."
"А древо грандиознее дупла."
"Дупло же грандиознее, чем белка."
"А белка грандиознее орла."
"А рыбка...это самое...где мелко."
"Мне хочется раздеться догола!"
"Где радиус, там вилка и тарелка!"
"А дерево, сгоревшее дотла..."
"Едва ли грандиознее, чем грелка."VII
ГОРБУНОВ И ГОРЧАКОВ
"Ты ужинал?" "Да, прежняя трава.
Все овощи..." "Не стоит огорчаться.
Нам птичьи тут отпущены права."
"Но мясо не должно бы запрещаться."
"Взгляни-ка лучше: новые дрова..."
"Имею же я право возмущаться!"
"Ну нет, администрация права,
права в пределах радиуса." "Вжаться
в сей радиус не жаждет голова,
а брюхо..." "Не желаю возвращатьсяк изложенному выше; и к тому ж,
мне кажется, пошаливает почка."
"Но сам-то я - вне радиуса." "Чушь!
А кто же предо мной?" "Лишь оболочка."
"Ну, о неограниченности душ
слыхал я что-то в молодости. Точка."
"Да нет, помимо этого, я - муж.
Снаружи и жена моя, и дочка."
"Тебе необходим холодный душ!
Где именно?" "На станции Опочка.""Наверное, приснилось." "Ни фига.
Скорее, это я тебе приснился."
"Опочка где-то в области." "Ага."
"Далеко ты того...распространился."
"Мне следует удариться в бега."
"Не стоит. Ты весьма укоренился."
"Ты прав. Но, говорят, одна нога...
другая там...Вообще я обленился!
Не сделать семимильного шага!"
"Ну-ну, угомонись." "Угомонился.""Ты сколько зарабатывал?" "Семьсот;
по-старому." "И где же?" "В учрежденьи."
"Боишься, что спросил и донесет?"
"Ну кто тебе откажет в наслажденьи?"
"Тебя мое молчанье не спасет."
"Да, знаешь ли, по зрелом рассужденьи..."
"Приятнее считать, что я сексот,
чем размышлять о местонахожденьи."
"Увы, до столь пронзительных высот
мешает мне взорлить происхожденье.""Так что ж ты наседаешь на меню?"
"Еще не превратился в ветерана
и трижды то же самое на дню..."
"Ты меряешь в масштабах ресторана."
"Я вписываю в радиус родню."
"Тебе, должно быть, резали барана
для ужина." "Я, собственно, клоню
к тому, что мне отказываться рано
от прошлого." "Кончай пороть херню."
"А что тебе не нравится?" "Пространно.""Я радиус расширил до родни."
"Тем хуже для тебя оно, тем хуже."
"Я только ножка циркуля. Они -
опора неподвижная снаружи."
"И это как-то скрашивает дни,
чем шире этот радиус?" "Чем уже.
На свете так положено: одни
стоят, другие двигаются вчуже."
"Бывают неподвижные огни,
расширенные радиусом лужи.""Я двигаюсь!" "Не ведаю, где старт,
но финиш - ленинградские сугробы."
"Я жив, пока я двигаюсь. Декарт
мне мог бы позавидовать." "Еще бы!
Мне нравится твой искренний азарт."
"А мне твои душевные трущобы
наскучили." "А что твой миллиард -
ну, звездные ковши и небоскребы?"
"Восходит Овн, курирующий март."
"Иметь здесь телескоп нам хорошо бы.""Вот именно. Нам стали бы видны
опоры наши дальние." "Начатки
движения." "Мы чувствовать должны
устойчивость Опочки и Камчатки."
"Я в марте родился. Мне суждены
шатания. Мне сняли отпечатки...
Как жаль, что мы дрожать принуждены:
опоры наши дальние столь шатки..."
"Которые под Овном рождены,
должны ходить в каракулевой шапке.""Ты думаешь, от холода дрожу?"
"А сверься с посиневшими пальцами."
"А ты?" "Я Близнецам принадлежу.
Я в мае родился, под Близнецами."
"Тепло тебе?" "Поскольку я сужу..."
"Короче! Не мудри с немудрецами!"
"В сравнении с тобой я нахожу,
что вовсе мне не холодно." "С концами!"
"В чем дело, Горчаков?" "Не выношу!"
"Да нет, все это правда - с месяцами.""Увы, на телескоп не наскрести,
и мы своих опор не наблюдаем."
"Пусть радиус у жизни не в чести,
сам циркуль, Горчаков, неувядаем."
"Еще умру тут, Господи, прости,
считая, что тот свет необитаем."
"Нет, не умрешь, напрасно не грусти."
"Ты думаешь?" "Обсудим." "Обсуждаем."
"Тот груз, которым нынче обладаем,
в другую жизнь нельзя перенести."VIII
ГОРБУНОВ В НОЧИ
"Твой довод мне бессмертие сулит!
Мой разум, как извилины подстилки,
сияньем твоих доводов залит -
не к чести моей собственной коптилки...
Проклятие, что делает колит!
И мысли - словно демоны в бутылке.
Твой светоч мой фитиль не веселит!
О Горбунов! от слов твоих в затылке,
воспламеняясь, кровь моя бурлит -
от этой искры, брошенной в опилки!Ушел...Мне остается монолог.
Плюс радиус ночного циферблата...
Оставил только яблоки в залог
и смылся, наподобие Пилата!
Попробуем забиться в уголок,
исследуем окраины халата.
Водрузим на затылок котелок
с присохшими остатками салата...
Какие звезды?! Пол и потолок.
В окошке - отражается палата.Ночь. Окна - бесконечности оплот.
Палата в них двоится и клубится.
За окнами - решетки переплет:
наружу отраженью не пробиться.
В пространстве этом - задом-наперед -
постелью мудрено не ошибиться.
Но сон меня сегодня не берет.
Уснуть бы...и вообще - самоубиться!
Рискуя - раз тут все наоборот -
тем самым в свою душу углубиться!Уснуть бы...Санитары на посту.
Приносит ли им пользу отраженье?
Оно лишь умножает тесноту,
поскольку бесконечность - умноженье.
Я сам уже в глазах своих расту,
и стекла, подхлестнув воображенье,
сжимают между койками версту...
Я чувствую во внутренностях жженье,
взирая на далекую звезду.
Основа притяженья - торможенье!Нормальный сон - основа всех основ!
Верней, выздоровления основа.
Эй, Горбунов!.. на кой мне Горбунов?!
Уменьшим свою речь на Горбунова!
Сны откровенней всех говорунов
и грандиозней яблока глазного.
Фрейд говорит, что каждый - пленник снов.
Как странно в это вдумываться снова...
Могилы исправляют горбунов!..
Конечно, за отсутствием иного
лекарства...А сия галиматья -
лишь следствие молчания соседних
кроватей. Ибо чувствую, что я
тогда лишь есмь, когда есть собеседник!
В словах я приобщаюсь бытия!
Им нужен продолжатель и наследник!
Ты, Горбунов, мой высший судия!
А сам я - только собственный посредник
меж спящим и лишенным забытья,
смотритель своих выбитых передних...
Ночь. Форточка...О, если бы медбрат
открыл ее...Не может быть и речи.
На этот - ныне запертый - квадрат
приходятся лицо мое и плечи.
Ведь это означало бы разврат,
утечку отражения. А течи
тем плохи, что любой дегенерат
решился бы, поскольку недалече
удрать хоть головою в Ленинград...
О Горбунов! Я чувствую при встречес тобою, как нормальный идиот,
себя всего лишь радиусом стрелки!
Никто меня, я думаю, не ждет
ни здесь, ни за пределами тарелки,
заполненной цифирью. Анекдот!
Увы, тебе масштабы эти мелки!
Грядет твое мучение! Ты тот,
которому масштаб его по мерке.
Весь ужас, что с тобой произойдет,
ступеньки разновидность или дверкитуда, где заждались тебя. Грешу
лишь тем, что не смогу тебя дозваться.
Ты, Горбунов! Покуда я дышу,
во власть твою я должен отдаваться!
К тебе свои молитвы возношу!
Мне некуда от слов твоих деваться!
Приди ко мне! Я слов твоих прошу.
Им нужно надо мною раздаваться!
Затем-то я на них и доношу,
что с ними неспособен расставаться,когда ты удаляешься...Прости!
Не то, чтобы страшился я разлуки...
Зажав освобождение в горсти,
к тебе свои протягиваю руки.
Как все, что предстоит перенести -
источник равнодушия и скуки -
не помни, Горбунов, меня, не мсти!
Как эхо, продолжающее звуки,
стремясь их от забвения спасти,
люблю и предаю тебя на муки."IX
ГОРБУНОВ И ВРАЧИ
"Ну, Горбунов, рассказывайте нам."
"О чем?" "О ваших снах." "Об оболочке."
"И называйте всех по именам."
"О циркуле." "Рассказывай о дочке."
"Дочь не имеет отношенья к снам."
"Давай-ка, Горбунов, без проволочки."
"Мне снилось море." "Ну его к хренам."
"Да, лучше обойдемся без примочки."
"Без ваший по морям да по волнам."
"Начните, если хочется, с Опочки.""Зачем вам это?" "Нужно." "И сполна."
"Для вашей пользы." "Реплика во вкусе
вопросов Красной Шапочки. Она,
вы помните, спросила у бабуси
насчет ушей, чья странная длина...
"не бойся" - та в ответ, - "ахти, боюси",
"чтоб лучше слышать внучку!" "Вот те на!
Не думали о вас мы, как о трусе."
"К тому ж, в итоге крошка спасена."
"Во всем есть плюсы." "Думайте о плюсе.""Чего молчите?" "Просто невтерпеж!
Дождется, что придется рассредится!"
"Чего ты дожидаешься?" "Что ложь,
не встретив возражений, испарится."
"И что тогда?" "Естественнее все ж
на равных толковать, как говорится."
"Ну, мне осточертел его скулеж.
Давайте впрыснем кальцию, сестрица."
"Он весь дрожит." "Естественная дрожь.
То мысли обостряются от шприца.""Ну, Горбунов, припомнили ли вы,
что снилось?" "Только море." "А лисички?"
"Увы, их больше не было." "Увы!"
"Я свыкся с ними. Это - по привычке."
"О женщинах, когда они мертвы
или смотались к черту на кулички,
так сетуют мужчины." "Вы правы:
"увы" - мужская реплика. Кавычки."
"Но может быть и возгласом вдовы."
"Запишем обе мысли в рапортичке.""Сны обнажают тайную канву
того, что совершается в мужчине."
"А то, что происходит наяву,
не так нас занимает по причине..."
"Причину я и сам вам назову."
"Да: Горчаков. Но дело не в личине,
им принятой скорей по озорству;
но в снах у вас - тенденция к пучине."
"Вы сон мой превращаете в Неву.
А устье говорит не о кончине;скорей, о размножении." "Едва ль
терипимо, чтоб у всяческих отбросов
пошло потомство." "Экая печаль.
Река, как уверяет нас философ,
стоит на месте, убегая вдаль."
"И это, говорят, вопрос вопросов."
"Отсюда Ньютон делает мораль."
"Ага! опять Ньютон!" "И Ломоносов."
"А что у нас за окнами?" "Февраль.
Пора метелей, спячки и доносов.""Как месяц, он единственный в году
по дням своим." "Подобие калеки."
"но легче ведь прожить его?" "К стыду,
признаюсь: легче легкого." "А реки?"
"Что - реки?" "Замыкаются во льду."
"Но мы-то говорим о человеке."
"Вы знаете, что ждет вас?" "На беду,
подозреваю: справка об опеке?"
"Со всем, что вы имеете ввиду,
вы, в общем, здесь останетесь навеки.""За что?!.. а впрочем, следует в узде
держать себя...нет выхода другого."
"И кликнуть Горчакова." "О звезде
с ним можно побеседовать." "Толково."
"Везде есть плюсы." "Именно: везде."
"И сам он вездесущ, как Иегова;
хотя он и доносит." "На гвозде,
как правило, и держится подкова."
"Как странно Горбунову на кресте
рассчитывать внизу на Горчакова.""Зачем преувеличивать?" "К чему,
милейший, эти мысли о Голгофе?"
"Но это - катастрофа." "Не пойму:
вы вечность приравняли к катастрофе?"
"Он вечности не хочет потому,
что вечность точно пробка в полуштофе."
"Да, все это ему не по уму."
"Эй, Горбунов, желаете ли кофе?"
"Почто меня покинул!" "Вы к кому
взываете?" "Опять о Горчаковетоскует он." "Не дочка, не жена,
а Горчаков!" "Все дело в эгоизме."
"Да Горчаков ли?" "Форма не важна.
Эй, Горбунов, а ну-ка покажись мне.
Твоя, ты знаешь, участь решена."
"А Горчаков?" "Предайся укоризне:
отныне вам разлука суждена.
Отпустим. Не вздыхай об этом слизне."
"Отныне, как обычно после жизни,
начнется вечность." "Просто тишина."X
РАЗГОВОР НА КРЫЛЬЦЕ
"Огромный город в сумраке густом."
"Расчерченная школьная тетрадка."
"Стоит огромный сумасшедший дом."
"Как вакуум внутри миропорядка."
"Фасад скрывает выстуженный двор,
заваленный сугробами, дровами."
"Не есть ли это тоже разговор,
коль все это описано словами?"
"Здесь - люди, и сошедшие с ума
от ужасов, утробных и загробных."
"А сами люди? Именно сама
возможность называть себе подобных
людьми?" "Но выражение их глаз?
Конечности их? Головы и плечи?"
"Вещь, имя получившая, тотчас
становится немедля частью речи."
"И части тела?" "Именно они."
"А место это?" "Названо же домом."
"А дни?" "Поименованы же дни."
"О, все это становится Содомомслов алчущих! Откуда их права?"
"Тут имя прозвучало бы зловеще."
"Как быстро разбухает голова
словами, пожирающими вещи!"
"Бесспорно, это голову кружит."
"Как море - Горбунову; нездорово."
"Не море, значит, на берег бежит,
а слово надвигается на слово."
"Слова - почти подобие мощей!"
"Коль вещи эти где-нибудь да висли...
Названия - защита от вещей."
"От смысла жизни." "В некотором смысле."
"Ужель и от страдания Христа?"
"От всякого страдания." "Бог с вами!"
"Он сам словами пользовал уста...
Но он и защитил себя словами."
"Тем, собственно, пример его и вещ!"
"Гарантия, что в море - не утонем."
"И смерть его - единственная вещь
двузначная." "И, стало быть, синоним.""Но вечность-то? Иль тоже на столе
стоит она сказалом в казакине?"
"Единственное слово на земле,
предмет не поглотившее поныне."
"Но это ли защита от словес?"
"Едва ли." "Осеняющийся Крестным
Знамением спасется." "Но не весь."
"В синониме не более воскреснем."
"Не более." "А ежели в любви?
Она - сопротивленье суесловью."
"Вы либо небожитель; либо вы
мешаете потенцию с любовью."
"Нет слова, столь лишенного примет."
"И нет непроницаемей покрова,
столь полно поглотившего предмет;
и более щемящего, как слово."
"Но ежели взглянуть со стороны,
то можно, в общем, сделать замечанье:
и слово - вещь. Тогда мы спасены!"
"Тогда и начинается молчанье.Молчанье - это будущее дней,
катящихся навстречу нашей речи,
со всем, что мы подчеркиваем в ней,
с присутствием прощания при встрече.
Молчанье - это будущее слов,
уже пожравших гласными всю вещность,
страшащуюся собственных углов;
волна, перекрывающая вечность.
Молчанье есть грядущее любви;
пространство, а не мертвая помеха,
лишающее бьющийся в крови
фальцет ее и отклика, и эха.
Молчанье - настоящее для тех,
кто жил до нас. Молчание - как сводня,
в себе объединяющая всех,
в глаголющее вхожая сегодня.
Жизнь - только разговор перед лицом
молчанья." "Пререкание движений."
"Речь сумерек с расплывшимся концом."
"И стены - воплощенье возражений."
"Огромный город в сумраке густом."
"Речь хаоса, изложенная кратко."
"Стоит огромный сумасшедший дом,
как вакуум, внутри миропорядка."
"Проклятие, как дует из углов!"
"Мой слух твое проклятие не колет:
не жизнь передо мной - победа слов."
"О как из существительных глаголет!"
"Так птица выдетает из гнезда,
гонимая заботами о харче."
"Восходит над равниною звезда
и ищет собеседника поярче."
"И самая равнина, сколько взор
охватывает, с медленностью почты
поддерживает ночью разговор."
"Что именно?" "Неровностями почвы."
"Как различить ночных говорунов,
хоть смысла в этом нету никакого?"
"Когда повыше - это Горбунов,
а где пониже - голос Горчакова."XI
ГОРБУНОВ И ГОРЧАКОВ
"Ну, что тебе приснилось?" "Как всегда."
"Тогда я и не спрашиваю." "Так-то,
проснулось чувство - как его - стыда."
"Скорее чувство меры или такта."
"Хорош!" "А что поделаешь? Среда
заела. И зависимость от факта."
"Какого?" "Попадания сюда."
"Ты довести способен до инфаркта.
Пошел ты вместе с фактами... туда."
"Давай, не будем прерывать контакта."
"Зачем тебе?" "А кто его." "Ну что ж...
Так ты меня покинешь?" "После Пасхи."
"Куда же ты отсюдова пойдешь?"
"Домой пойду." "А примут без опаски?"
"Я думаю." "А где же ты живешь?"
"Не предаю я адреса огласке."
"Сдается мне, дружок, что это ложь."
"Как хочешь." "Не рассказывай мне сказки."
"Ты все равно ко мне не попадешь."
"О чем ты?" "Я все больше о развязке.""Тогда ты прав." "Я думаю, что прав."
"Лишь думаешь?" "Ну, вырвалось случайно.
Я сомневаться не имею прав."
"А чем займешься дома?" "Это тайна."
"Подобный стиль беседовать избрав,
контакта хочешь? Странно чрезвычайно."
"Не стиль таков, а, собственно, мой нрав."
"А может, хочешь яблока ты?" "Дай, но
не расколюсь я, яблоко забрав...
Понять и бросить, вира или майна -вот род моих занятий основной.
Все прочее считаю посторонним."
"Глаза мне застилает пеленой!
Поднять и бросить! - это же синоним
всего происходящего со мной."
"Ну, мы тебя, не бойся, не уроним."
"Что значит "мы"?" "Не нервничай, больной.
Хошь, научу гаданью по ладоням?"
"Прости, я повернусь к тебе спиной?"
"Ужель мы нашу дружбу похороним?!Ты должен быть, по-моему, добрей."
"Таким я вышел, видимо, из чрева"
"Но бытие..." "Чайку тебе?" "Налей...
определяет..." "Греть?" "Без подогрева...
сознание...Ну, ладно, подогрей."
"Прочел бы это справа ты налево."
"Да что же я, по-твоему - еврей?"
"Еврей снял это яблоко со древа
познания." "Ты, братец, дуралей.
Сняла-то Ева." "Видно, он и Ева.""А все ж, он был по-своему умен.
Является создателем науки.
И имя звучно." "Лучше без имен.
Боюсь, не отхватили бы мне руки
за этот смысловой полиндромон."
"Он тоже обрекал себя на муки.
Теперь он вождь народов и племен."
"Панмонголизм! как много в этом звуке."
"Он тоже, вроде, был приговорен."
"Наверно, не к разлуке." "Не к разлуке.Что есть разлука?" "Знаешь, не пойму,
зачем тебе?" "Считай, для картотеки."
"Разлука - это судя по тому,
с кем расстаешься. Дело в человеке.
Где остаешься. Можно ль одному
остаться там, подавшись в имяреки?
Коль с близким - отдаешь его кому?
Надолго ли?" "А ежели навеки?"
"Тогда стоишь и пялишься во тьму
такую, как опущенные векиобычно создают тебе для сна.
И вздрагиваешь изредка от горя,
поскольку мрака явственность ясна.
И ни тебе лисичек или моря."
"А ежели за окнами весна?
Весной все легче." "Спорно это." "Споря,
не забывай, что в окнах - белизна."
"Тогда ты - словно вырванное с поля."
"Земля не кровоточит, как десна."
"Ну, видимо, на то Господня воля...А что тебе разлука?" "Трепотня...
Ну, за спиной закрывшиеся двери.
И, если это день, сиянье дня."
"А если ночь?" "Смотря по атмосфере.
Ну, может, свет горящего огня.
А нет - скамья, пустующая в сквере."
"Ты расставался с кем-нибудь, храня
воспоминанья?" "Лучше на примере."
"у, что ты скажешь, потеряв меня?"
"Вообще-то, я не чувствую потери.""Не чувствуешь? А все твое нытье
о дружбе?" "Это верно и поныне.
Пока у нас совместное житье,
нам лучше, видно, вместе по причине
того, что бытие..." "Да не на "е"!
Не бытие, а бытие." "Да ты не -
не придирайся... да, небытие,
когда меня не будет и в помине,
придаст однообразие равнине."
"Ты, стало быть, молчание мое..."XII
ГОРБУНОВ И ГОРЧАКОВ
"Ты ужинал?" "Я ужинал. А ты?"
"Я ужинал." "И как тебе капуста?"
"Щи оставляют в смысле густоты
желать, конечно, лучшего: не густо."
"А щи вообще, как правило, пусты.
Есть даже поговорка." "Это грустно.
Хоть уксуса чуть-чуть для остроты!"
"Все - пусто." "Отличается на вкус-то,
наверно, пустота от пустоты."
"Не жвачки мне хотелось бы, а хруста.""В такие нас забросило места,
что ничего не остается, кроме
как постничать задолго до Поста."
"Ты говоришь о сумасшедшем доме?"
"Да, наша география проста."
"А что потом?" "Ты вечно о потоме!
Когда - потом?" "По снятии с креста."
"О чем ты?!" "Отнесись как к идиоме."
"Положат хоть лаврового листа."
"А разведут по-прежнему на броме.""Да, все это не кончится добром.
Бром вреден - так я думаю - здоровью."
"И волосы вылазят. Это - бром!
Ты приглядись к любому изголовью:
Бабанов расстается с сербром,
Мицкевич - с высыпающейся бровью.
И у меня на темени разгром.
Он медленно приводит к малокровью."
"Бром - стенка между бесом и ребром,
чтоб мы мозги не портили любовью.Я в армии глотал его." "Один?"
"Всей армией. Мы выдумали слово.
Он назывался "противостоин".
Какая с ним Уланова-Орлова!"
"Я был брюнет, а делаюсь блондин.
Пробор разрушен! Жалкая основа...
А ткани нет...не вышло до седин
дожить..." "Не забывай же основного."
"Чего не забывать мне, господин?"
"Быть может, не потребуются снова.""Кто?" "Кудри." "Вероятно." "Не дрожи."
"Мне холодно." "Засунул бы ты руки
под одеяло." "Правильно." "Скажи,
что есть любовь?" "Сказал..." "Но в каждом звукедругие рубежи и этажи."
"Любовь есть предисловие к разлуке."
"Не может быть!" "Я памятником лжи
согласен стать, чтоб правнуки и внуки
мне на голову клали!" "Не блажи."
"Я это, как и прочее, от скуки.""Проклятие, как дует от окна."
"Залеплено замазкой." "Безобразно.
Смотри, и батарея холодна!"
"Здесь вообще и холодно, и грязно...
Смотри, звезда над деревом видна -
без телескопа." "Видно и на глаз, но
звезда не появляется одна."
"Я вдруг подумал - но, конечно, праздно -
что если крест да распилить бы на
дрова, взойдет ли дым крестообразно?""Ты спятил!" "Я не спятил, а блюду
твой интерес." "Похвальная сердечность.
Но что имеешь, собственно, ввиду?"
"Согреть окоченевшую конечность."
""Да, все мои конечности во льду."
"Я прав." "Но в этом есть бесчеловечность.
Сложи поленья лучше как звезду."
"Звезда, ты прав, напоминает вечность;
не то, что крест, к великому стыду."
"Не вечность, а дурную бесконечность.""Который час?" "По-видимому, ночь."
"Молю, не начинай о Зодиаке."
"Снаружи и жена моя, и дочь.
Что о любви, то верно и о браке."
"Я тоже поджениться бы непрочь.
А вот тебе не следовало." "Паки
и паки я гляжу, тебе невмочь,
что я женат." "Женился бы на мраке!"
"Ну, я к однообразью неохоч.
В семье есть ямы, есть и буераки.""Который час?" "Да около ноля."
"О, это поздно." "Не имея вкуса
к цифири, я скажу тебе, что для
меня все "о" - предшественницы плюса."
"Ну, дали мои губы кругаля...
То ж следствие зевоты и прикуса.
Чего ты добиваешься, валя
все в кучу?" "Недоступности Эльбруса."
"А соразмерной впадины земля
не создала?" "Отпраздновали труса.""Уж если размышляешь о горе,
то думай о Голгофе по причине
того, что март уже в календаре,
и я исчезну где-нибудь в лощине."
"Иль в облаке сокрывшись, как в чадре,
сыграешь духа в этой чертовщине."
"На свой аршин ты меряшь, тире,
твоей двуглавой снеговой вершине
не уместиться ввек в моем аршине,
сжимающем сугробы во дворе."XIII
РАЗГОВОРЫ О МОРЕ
"Твой довод мне бессмертие сулит.
Но я, твоим пророчествам на горе,
уже наполовину инвалид.
Как снов моих прожектор в коридоре,
твой светоч мою тьму не веселит...
Но это не в укор, и не в укоре
все дело. То есть, пусть его горит!..
В открытом и в смежающемся взоре
все время что-то мощное бурлит,
как будто море. Думаю, что море.""Больница. Ночь. Враждебная среда.
Внимать я не могу тебе без дрожи
от холода, но также от стыда
за светоч. Ибо море - это все же
есть впадина. Однако же, туда
я не сойду, хоть истина дороже...
Но я не причиню тебе вреда!
Куда уж больше! Видимо ты тоже
не столь уверен, море ли...Беда.
На что все это, Господи, похоже?""Пожалуй, море... Чайки на молу
над бабой, в них швыряющейся коркой.
И ветер треплет драную полу,
хлеща волнообразною оборкой
ей туфли...И стоит она в пылу
визгливой битвы, с выбившейся челкой,
швыряет хлеб и пялится во мглу...
Как будто став внезапно дальнозоркой,
высматривает в Турции пчелу.""Да, это море. Именно оно.
Пучина бытия, откуда все мы,
как витязи, явились так давно,
что, не коснись ты снова этой темы,
забыл бы я, что существует дно
и горизонт, и прочие системы
пространства, кроме той, где суждено
нам видеть только крашеные стены
с лиловыми их полосами; но
умеющие слышати, да немы.""Есть в жизни нечто большее, чем мы,
что греет нас, само себя не грея,
что громоздит на впадины холмы
- хотя бы и при помощи Борея,
друг другу их несущего взаймы.
Я чувствую, что шествую во сне я
ступеньками, ведущими из тьмы
то в бездну, то в преддверье эмпирея,
один, среди цветущей бахромы -
бессонным эскалатором Нерея.""Но море слишком чуждая среда,
чтоб верить в чьи-то странствия по водам.
Конечно, если не было там льда.
Похоже, Горбунов, твоим невзгодам
конца не видно. Видно, на года,
как вся эта история с исходом,
рассчитаны они...Невесть куда
все дальше побредешь ты с каждым годом,
туда, где с морем соткана вода...
К кому воззвать под этим небосводом?""Для этого душа моя слаба.
Я - волны, а не крашеные наши
простенки узрю всюду, где судьба
прибьет меня - от Рая до параши.
И это, Горчаков, не похвальба:
в таком водонебесном ералаше,
о чем бы и была моя мольба?
Для слышати умеющего краше
валов артиллерийская пальба,
чем слезное моление о чаше.""Но это - грех!...да что же я? Браня
тебя, забыл о выходке с дровами...
Мне помнится, ты спрашивал меня,
что снится мне. Я выразил словами,
и я сказал, что сон - наследье дня,
а ты назвал лисички островами.
Я это говорю тебе, клоня
к тому, что жестко нам под головами.
Теперь ты видишь, море - трепотня!
И тот же сон, хоть с большими правами.""А что есть сон?" "Основа всех основ."
"И мы в него впадаем, словно реки."
"Мы в темноту впадаем, и хренов
твой вымысел. Что спрашивать с калеки!"
"Сон - выход из потемок." "Горбунов!
В каком живешь ты, забываешь, веке.
Твой сон не нов!" "И человек не нов."
"Зачем ты говоришь о человеке?"
"А человек есть выходец из снов."
"А что же в нем решающее?" "Веки.Закроешь их и видишь темноту."
"Хотя бы и при свете?" "И при свете...
И вдруг заметишь первую черту.
Одна, другая...третья на примете.
В ушах шумит и холодно во рту.
Потом бегут по набережной дети,
и чайки хлеб хватают на лету..."
"А нет ли там меня, на парапете?"
"И все, что вижу я в минуту ту,
реальнее, чем ты на табурете."XIY
РАЗГОВОР В РАЗГОВОРЕ
"Но это - бред! Ты слышишь, это - бред!
Поди сюда, Бабанов, ты свидетель!
Смотри: вот я встаю на табурет!
На мне халат без пуговиц и петель!
Ну, Горбунов, узрел меня ты?" "Нет."
"А цвет кальсон?" "Ей-Богу, не заметил."
"Сейчас я разможжу тебе портрет!
Ну, Горбунов, считай, поднялся ветер!
Сейчас из моря будет винегрет!
Ты слышишь, гад?" "Да я уже ответил.""Ах так! Так пустим в дело кулаки!
Учить, учить приходится болванов!
На, получай! А ну-ка, прореки,
кто вдарил: Горчаков или Бабанов?"
"По-моему, Гор-банов." "Ты грехи
мне отпускаешь, вижу я! Из кранов
сейчас польет твой окиян!" "Хи-хи."
"А ты что ржешь?! У, скопище баранов!"
"Чего вы расшумелись, старики?"
"Уйди, Мицкевич!" "Я из ветеранов,и я считаю, ежели глаза
чувак закрыл - завязывай; тем боле,
что ночь уже." "Да я и врезал за,
за то, что он закрыл их не от боли."
"Сказал тебе я: жми на тормоза."
"Ты что, Мицкевич? Охренел ты, что ли?
Да на кого ты тянешь, стрекоза?"
"Я пасть-те разорву!" "Ой-ой, мозоли!"
"Эй, мужики, из-за чего буза?"
"Да пес поймет." "На хвост кому-то солинасыпали." "Атас, идут врачи!"
"В кровати, живо!" "Я уже в постели!"
"Ты, Горбунов, закройся и молчи,
как будто спишь." "А он и в самом деле
уже заснул." "Атас, звенят ключи!"
"Заснул? Не может быть! Вы обалдели!"
"Заткнись, кретин!" "Бабанов, не драчи."
"Оставь его." "Я, правда, еле-еле."
"Ну, Горбунов, попробуй настучи."
"Да он заснул." "Ну, братцы, залетели.""Как следует приветствовать врачей?"
"Вставанием...вставайте, раскоряки!"
"Есть жалобы у вас насчет харчей?"
"Я слышал шум, но я не вижу драки."
"Какая драка, свет моих очей?"
"Медбрат сказал, что здесь дерутся." "Враки."
"Ты не юли мне." "Чей это ручей?"
"Да это ссака." "Я же не о ссаке.
Не из чего, я спрашиваю - чей?"
"Да, чей, орлы?" "Кубанские казаки.""Мичкевич!" "Ась?" "Чтоб вытереть, аспид!"
"Да мы, врачи, заботимся о быте."
"А Горбунов что не встает?" "Он спит."
"Он, значит, спит, а вы еще не спите."
"Сейчас ложимся." "Верно, это стыд."
"Ну, мы пошли." "Смотрите, не храпите."
"Чтоб слышно, если муха пролетит!"
"Мне б на оправку." "Утром, потерпите."
"Ты, Горчаков, ответственный за быт."
"Да, вот вам новость: спутник на орбите.""Ушли." "Эй, Горчаков, твоя моча?"
"Иди ты на..." "Ну, закрываем глазки."
"На Пасху хорошо бы кулича."
"Да, разговеться. Маслица, колбаски..."
"Чего же не спросил ты у врача?"
"Ты мог бы это сделать без опаски:
он спрашивал." "Забыл я сгоряча."
"Заткнитесь, вы. Заладили о Пасхе."
"Глянь, Горчаков-то, что-то бормоча,
льнет к Горбунову." "Это для отмазки.""Ты вправду спишь? Да, судя по всему,
ты вправду спишь...Как спутались все пряди...
Как все случилось, сам я не пойму.
Прости меня, прости мне, Бога ради.
Постой, подушку дай приподниму...
Удобней так?.. Я сам с собой в разладе.
Прости...Мне это все не по уму.
Спи...если вправду говорить о взгляде,
тут задержаться не на чем ему.
Тут все преграда. Только на преграде.Спи, Горбунов. Пока труба отбой
не пропоет...Всем предпочту наградам
стеречь твой сон... а впрочем, с ней, с трубой!
Ты не привык, а я привык к преградам.
Прости меня с моею похвальбой.
Прости меня со всем моим разладом...
Спи, спи, мой друг. Я посижу с тобой.
Не над тобой, не под - а просто рядом.
А что до сроков - я прожду любой,
пока с тобой не повстречаюсь взглядом...Что видишь? Море? Несколько морей?
И ты бредешь сквозь волны коридором...
И рыбы молча смотрят из дверей...
Я - за тобой... но тотчас перед взором
всплывают мириады пузырей...
Мне не пройти, не справиться с напором...
Что ты сказал?!.. Почудилось... Скорей
всего, я просто брежу разговором...
Смотри-ка, как бесчинствует Борей:
подушка смята, кончено с пробором..."1965 -1968
Сухое левантинское лицо,
упрятанное оспинками в бачки,
когда он ищет сигарету в пачке,
на безымянном тусклое кольцо
внезапно преломляет двести ватт,
и мой хрусталик вспышки не выносит;
я жмурюсь; и тогда он произносит,
глотая дым при этом, "виноват".Январь в Крыму. На черноморский брег
зима приходит как бы для забавы:
не в состояньи удержаться снег
на лезвиях и остриях атавы.
Пустуют ресторации. Дымят
ихтиозавры грязные на рейде,
и прелых лавров слышен аромат.
"Налить вам этой мерзости?" "Налейте".Итак - улыбка, сумерки, графин.
Вдали буфетчик, стискивая руки,
дает круги, как молодой дельфин
вокруг хамсой заполненной фелюки.
Квадрат окна. В горшках - желтофиоль.
Снежинки, проносящиеся мимо...
Остановись, мгновенье! Ты не столь
прекрасно, сколько ты неповторимо.Январь 1969
История, рассказанная ниже,
правдива. К сожаленью, в наши дни
не только ложь, но и простая правда
нуждается в солидных подтвержденьях
и доводах. Не есть ли это знак,
что мы вступаем в совершенно новый,
но грустный мир? Доказанная правда
есть, собственно, не правда, а всего
лишь сумма доказательств. Но теперь
не говорят "я верю", а "согласен".В атомный век людей волнует больше
не вещи, а строение вещей.
И, как ребенок, распатронив куклу,
рыдает, обнаружив в ней труху,
так подоплеку тех или иных
событий мы обычно принимаем
за самые событья. В этом есть
свое очарование, поскольку
мотивы,отношения,среда
и прочее - все это жизнь. а к жизни
нас приучили относиться как
к обьекту наших умозаключений.И кажется порой, что нужно только
переплести мотивы, отношенья,
среду, проблемы - и произойдет
событие; допустим - преступленье.
Ан, нет. за окнами - обычный день,
накрапывает дождь, бегут машины,
и телефонный аппарат (клубок
катодов, спаек, клемм, сопротивлений)
безмолвствует. Событие, увы,
не происходит. впрчем, слава богу.Описанное здесь случилось в Ялте.
естественно, что я пойду навстречу
указанному выше представленью
о правде - то-есть стану потрошить
ту куколку. Но да простит меня
читатель добрый, если кое-где
прибавлю к правде элемент искусства,
которое, в конечном счете, есть
основа всех событий (хоть искусство
писателя не есть искусство жизни,
а лишь его подобье). Показанья
свидетелей даются в том порядке,
в каком они снимались. вот пример
зависимости правды от искусства,
а не искусства - от наличья правды.1
"Он позвонил в тот вечер и сказал,
что не придет. А мы с ним сговорились
еще во вторник, что в субботу он
ко мне заглянет. Да, как раз во вторник.
Я позвонил ему и пригласил
его зайти, и он сказал: "В субботу".
С какой целью? Просто мы давно
хотели сесть и разобрать совместно
один этуд Чигорина. И все.
Другой, как вы тут выразились, цели
у встречи нашей не было. При том
условии, конечно, что желанье
увидеться с приятным человеком
не называют целью. Впрочем, вам
видней... но, к сожалению, в тот вечер
он, позвонив, сказал, что не придет.
А жаль! я так хотел его увидеть.Как вы сказали: был взволнован? Нет.
Он говорил своим обычным тоном.
Конечно, телефон есть телефон;
но, знаете, когда лица не видно,
чуть-чуть острей воспринимаешь голос.
Я не слыхал волнения... Вообще-то
он как-то странно составлял слова.
Речь состояла более из пауз,
всегда смущавших несколько. Ведь мы
молчанье собеседника обычно
воспринимаем как работу мысли.
А это было чистое молчанье.
Вы начинали ощущать свою
зависимось от этой тишины,
и это сильно раздражало многих.
Нет, я-то знал, что это результат
контузии. Да, я уверен в этом.
А чем еще вы объясните... Как?
Да, значит, он не волновался. Впрочем,
ведь я сужу по голосу и только.
Скажу во всяком случае одно:
тогда во вторник и потом в субботу
он говорил обычным тоном. Если
за это время что-то и стряслось,
то не в субботу. Он же позвонил!
Взволнованные так не поступают!
Я, например, когда волнуюсь... Что?
Как протекал наш разговор? Извольте.
Как только прозвучал звонок, я тотчас
снял трубку. "Добрый вечер, это я.
Мне нужно перед вами извиниться.
Так получилось, что прийти сегодня
я не сумею". Правда? Очень жаль.
Быть может, в среду? Мне вам позвонить?
Помилуйте, какие тут обиды!
Так до среды? И он: "Спокойной ночи".
Да, это было около восьми.
Повесив трубку, я прибрал посуду
и вынул доску. Он в последний раз
советовал пойти ферзем на Е-8.
То был какой-то странный, смутный ход.
Почти нелепый. И совсем не в духе
Чигорина. Нелепый, странный ход,
не изменявший ничего, но этим
на нет сводивший самый смысл этюда.
В любой игре существенен итог:
победа, пораженье, пусть ничейный,
но все же результат. А этот ход -
оно как бы вызывал у тех фигур
сомнение в своем существованье.
Я просидел с доской до поздней ночи.
Быть может, так когда-нибудь и будут
играть, но что касается меня...
Простите, я не понял: говорит ли
мне что-нибудь такое имя? Да.
Пять лет назад мы с нею разошлись.
Да, правильно, мы не были женаты.
Он знал об этом? Думаю, что нет.
Она бы говорить ему не стала.
Что? Эта фотография? Ее
я убирал перед его приходом.
Нет, что вы! вам не нужно извиняться.
Такой вопрос естественен, и я...
Откуда мне известно об убийстве?
Она мне позвонила в эту ночь.
Вот у кого взволнованный был голос!"2
"Последний год я виделась с ним редко,
но виделась. Он приходил ко мне
два раза в месяц. Иногда и реже.
А в октябре не приходил совсем.
Обычно он предупреждал звонком
заранее. Примерно за неделю.
Чтоб не случилось путаницы. Я,
вы знаете, работаю в театре.
Там вечно неожиданности. Вдруг
заболевает кто-нибудь, сбегает
на киносъемку - нужно заменять.
Ну, в общем, в этом духе. И к тому же
- к тому ж он знал, что у меня теперь...
Да, верно. Но откуда вам известно?
А впрочем, это ваше амплуа.
Но то, что есть теперь, ну, это, в общем,
серьезно. то-есть я хочу сказать,
что это... Да, и несмотря на это,
я с ним встречалась. Как вам обьяснить!
Он, видите ли, был довольно странным.
и непохожим на других. Да, все,
все люди друг на друга непохожи,
Но он был непохож на всех других.
Да, это в нем меня и привлекало.
Когда мы были вместе, все вокруг
существовать переставало. То-есть,
все продолжало двигаться, вертеться -
мир жил; и он его не заслонял.
Нет! я вам говорю не о любви!
Мир жил. Но на поверхности вещей -
как движущихся, так и неподвижнщх -
вдруг возникало что-то вроде пленки,
вернее, пыли, придававшей им
какое-то бессмысленное сходство.
Так, знаете, в больницах красят белым
и потолки, и стены, и кровати.
Ну, вот, представьте комнату мою,
засыпанную снегом. Правда, странно?
А вместе с тем, не кажется ли вам,
что мебель только выиграла б от
такой метаморфозы? Нет? А жалко.
Я думала тогда, что это сходство
и есть действительная внешность мира.
Я дорожила этим ощущеньем.Да, именно поэтому я с ним
совсем не порывала. А во имя
чего, простите, следовало мне
расстаться с ним? Во имя капитана?
А я так не считаю. Он, конечно,
серьезный человек, хоть офицер,
Но это ощущенье для меня
всего важнее! Разве он сумел бы
мне дать его? О, господи, я только
сейчас и начинаю понимать,
насколько важным было для меня
то ощущенье! Да, и это странно.
Что именно? Да то, что я сама
отныне стану лишь частичкой мира,
что и на мне появится налет
той паутины. А я-то буду думать,
что непохожа на других! Пока
мы думаем, что мы неповторимы,
мы ничего не знаем. Ужас, ужас.Простите, я налью себе вина.
Вы тоже? С удовольствием. Ну, что вы,
я ничего не думаю! Когда
и где мы познакомились? Не помню.
Мне кажется, на пляже. Верно: там,
в Ливадии, на санаторском пляже.
А где еще встречаешься с людьми
в такой дыре, как наша? Как, однако,
вам все известно обо мне! Зато
вам никогда не угадать тех слов,
с которых наше началось знакомство.
А он сказал мне: "понимаю, как
я вам противен, но..." - что было дальше,
не так уж важно. Правда, ничего?
Как женщина, советую принять
вам эту фразу на вооруженье.
Что мне известно о его семье?
Да ровным счетом ничего. Как будто,
как будто сын был у него, но где?
А впрочем, нет, я путаю: ребенок
у капитана. Да, мальчишка, школьник.
Угрюм; но, в общем, вылитый отец...
Нет, о семье я ничего не знаю.
И о знакомых тоже. Он меня
ни с кем, насколько помню, не знакомил.
Простите, я налью себе еще.
Да, совершенно верно; душный вечер.Нет, я не знаю, кто его убил.
Как вы сказали? Что вы! Это - тряпка.
Сошел с ума от ферзевых гамбитов.
К тому ж они приятели. Чего
я не могла понять, так этой дружбы.
Там, в ихнем клубе, они так дымят,
что могут завонять весь Южный Берег.
Нет, капитан в тот вечер был в театре.
Конечно, в штатском! я не выношу
их форму. и потом мы возвращались
обратно вместе.
Мы его нашли
в моем парадном. Он лежал в дверях.
Сначала мы решили - это пьяный.
У нас в парадном, знаете, темно.
Но тут я по плащу его узнала:
на нем был белый плащ, но весь в грязи.
Да, он не пил. Я знаю это твердо;
да, видимо, он полз. И долго полз.
потом? Ну, мы внесли его ко мне
и позвонили в отделенье. Я?
Нет - капитан. мне было просто худо.Да, все это действительно кошмар.
Вы тоже так считаете? Как странно.
Ведь это ваша служба. Вы правы:
да, к этому вообще привыкнуть трудно.
И вы ведь тоже человек... Простите!
Я неудачно выразилась. Да,
пожалуйста, но мне не наливайте.
Мне хватит. И к тому ж я плохо сплю,
а утром - репетиция. Ну, разве
как средство от бессонницы. Вы в этом
убеждены? Тогда - один глоток.
Вы правы, нынче очень, очень душно.
И тяжело. И совершенно нечем
дышать. И все мешает. Духота.
Я задыхаюсь. Да. А вы? А вы?
Вы тоже? Да? А вы? А вы? Я больше -
я больше ничего не знаю. Да?
Я совершенно ничего не знаю.
Ну, что вам нужно от меня? Ну, что вы...
Ну, что ты хочешь? А? Ну что? Ну что?"3
"Так вы считаете, что я обязан
давать вам обьяснения? Ну что ж,
обязан так обязан. но учтите:
я вас разочарую, так как мне
о нем известно безусловно меньше,
чем вам. Хотя того, что мне известно,
достаточно, чтобы сойти с ума.
Вам это, полагаю, не грозит,
поскольку вы... Да, совершенно верно:
я ненавидел этого субьекта.
Причины вам, я думаю, ясны.
А если нет - вдаваться в обьясненья
бессмысленно. Тем более, что вас,
в конце концов, интересуют факты.
Так вот: я признаюсь, что ненавидел.Нет, мы с ним не были знакомы. Я -
я знал, что у нее бывает кто-то.
Но я не знал, кто именно. Она,
конечно, ничего не говорила.
Но я-то знал! Чтоб это знать, не нужно
быть Шерлок Холмсом, вроде вас. Вполне
достаточно обычного вниманья.
Тем более... Да, слепота возможна.
Но вы совсем не знаете ее!
Ведь если мне она не говорила
об этом типе, то не для того,
чтоб что-то скрыть! Ей просто не хотелось
расстраивать меня. Да и скрывать
там, в общем, было нечего. Она же
сама призналась - я ее припер
к стене - что скоро год, как ничего
уже меж ними не было... Не понял -
поверил ли я ей? Ну, да, поверил.
Другое дело, стало ли мне легче.Возможно, вы и правы. Вам видней.
но если люди что-то говорят,
То не за тем, чтоб им не доверяли.
По мне, само уже движенье губ
существенней, чем правда и неправда:
в движеньи губ гораздо больше жизни,
чем в том, что эти губы произносят.
Вот я сказал вам, что поверил; нет!
здесь было нечто большее. Я просто
увидел, что она мне говорит.
(Заметьте, не услышал, но увидел!)
Поймите, предо мной был человек.
Он говорил, дышал и шевелился.
Я не хотел считать все это ложью,
да и не мог... Вас удивляет, как
с таким подходом к человеку все же
я ухитрился получить четыре
звезды? Но это - маленькие звезды.
Я начинал совсем иначе. Те,
с кем начинал я,- те давно имеют
большие звезды. Многие и по две.
(Прибавьте к вашей версии, что я
еще и неудачник; это будет
способствовать ее правдоподобью.)
Я, повторяю, начинал иначе.
Я, как и вы, везде искал подвох.
И находил, естественно. солдаты
такой народ - все время норовят
начальство охмурить... Но как-то я
под Кошице, в сорок четвертом, понял,
что это глупо. Предо мной в снегу
лежало двадцать восемь человек,
которым я не доверял,- солдаты.
Что? Почему я говорю о том,
что не имеет отношенья к делу?
Я только отвечал на ваш вопрос.Да, я - вдовец. уже четыре года.
Да, дети есть. один ребенок, сын.
Где находился вечером в субботу?
В театре. А потом я провожал
ее домой. Да, он лежал в парадном.
Что? Как я реагировал? Никак.
Конечно, я узнал его. Я видел
их вместе как-то раз в универмаге.
они там что-то покупали. Я
тогда и понял...
Дело в том, что с ним
я сталкивался изредка на пляже.
Нам нравилось одно и то же место -
там, знаете, у сетки. И всегда
я видел у него на шее пятна...
Те самые, ну, знаете... Ну, вот.
Однажды я сказал ему - ну, что-то
насчет погоды - и тогда он быстро
ко мне нагнулся и, не глядя на
меня, сказал: "Мне как-то с вами неохота",
и только через несколько секунд
добавил:"разговаривать". При этом
все время он смотрел куда-то вверх.
Вот в ту минуту я, клянусь вам, мог
убить его. В глазах моих стемнело,
я ощутил, как заливает мозг
горячая волна, и на мгновенье,
мне кажется, я потерял сознанье.
Когда я наконец пришел в себя,
он возлежал уже на прежнем месте,
накрыв лицо газетой, и на шее
темнели эти самые подтеки...
Да, я не знал тогда, что это - он.
По счастью, я еще знаком с ней не был.Потом? Потом он, кажется, исчез;
я как-то не встречал его на пляже.
Потом был вечер в Доме офицеров,
и мы с ней познакомились. Потом
я увидал их там в универмаге...
Поэтому его в субботу ночью
я сразу же узнал. Сказать вам правду,
я до известной степени был рад.
Иначе все могло тянуться вечно,
и всякий раз после его визитов
она была немного не в себе.
Теперь, надеюсь, все пойдет, как надо.
Сначала будет малость тяжело,
но я-то знаю, что в конце концов
убитых забывают, и к тому же
мы, видимо, уедем. у меня
есть вызов в Академию. Да, в Киев.
Ее возьмут в любой театр, а сын
с ней очень дружит. И возможно, мы
с ней заведем и своего ребенка.
Я - хахаха - как видите, еще...
Да, я имею личное оружье.
Да нет, не "стечкин" - просто у меня
еще с войны трофейный "парабеллум".
Ну да, раненье было огнестрельным."4
"В тот вечер батя отвалил в театр,
а я остался дома вместе с бабкой.
Ага, мы с ней вместе смотрели телевизор.
Уроки? Так ведь то ж была суббота!
Да, значит, телевизор. Про чего?
Сейчас уже не помню. Не про Зорге?
Ага, про Зорге! Только до конца
я не сиотрел - я видел это раньше.
У нас была экскурсия в кино.
Ну вот... С какого места я ушел?
Ну, это там, где Клаузен и немцы.
Верней, японцы... и потом они
еще плывут вдоль берега на лодке.
Да, это было после девяти.
Наверное. Потому что гастроном
они в субботу закрывают в десять,
а я хотел мороженого. Нет,
я посмотрел в окно - ведь он напротив.
Да, и тогда я захотел пройтись.
Нет, бабке не сказался. Почему?
Она бы зарычала - ну, пальто,
перчатки, шапка - в общем, все такое.
Ага, был в куртке. Нет, совсем не в этой,
а в той, что с капюшоном. Да, она
на молнии.
Да, положил в карман.
Да нет, я просто знал, где ключ он прячет...
Конечно просто так! И вовсе не
для хвастовства! Кому бы я стал хвастать?
Да, было поздно и вообще темно.
О чем я думал? Ни о чем не думал.
По-моему, я просто шел и шел.Что? Как я очутился наверху?
Не помню... в общем, потому что сверху
спускаешься когда, перед тобой
все время - гавань. И огни в порту.
Да, верно, и стараешься представить
что там творится. И вообще когда
уже домой - приятнее спускаться.
Да, было тихо и была луна.
Ну, в общем, было здорово красиво.
Навстречу? Нет, никто не попадался.
Нет, я не знал, который час. Но "Пушкин"
в субботу отправляется в двенадцать,
а он еще стоял - там, на корме,
салон для танцев, где цветные стекла,
и сверху это вроде изумруда.
Ага, и вот тогда...
Чего? Да нет же!
Еенный дом над парком, а его
я встретил возле выхода из парка.
Чего? а вообще у нас какие
с ней отношения? Ну как - она
красивая. И бабка так считает.
И вроде ничего, не лезет в душу.
Но мне-то это, в общем, все равно.
Папаша разберется...
Да, у входа.
Ага, курил. Ну да, я попросил,
а он мне не дал и потом... Ну, в общем,
он мне сказал: "А не катись отсуда"
и чуть попозже - я уж отошел
шагов на десять, может быть, и больше -
вполголоса прибавил: "Негодяй".
Стояла тишина и я услышал.
Не знаю, что произошло со мной!
Ага, как будто кто меня ударил.
Мне словно чем-то залило глаза,
и я не помню, как я обернулся
и выстрелил в него! Но не попал:
он продолжал стоять на прежнем месте
и, кажется, курил. И я... и я...
Я закричал и бросился бежать.
А он - а он стоял...
Никто со мною
так никогда не говорил! А что,
а что я сделал? Только попросил.
Да, папиросу. Пусть и папиросу!
Я знаю, это плохо. Но у нас
почти все курят. Мне и не хотелось
курить-то даже! Я бы не курил,
я только подержал бы... Нет же! нет же!
Я не хотел себе казаться взрослым!
Ведь я бы не курил! Но там, в порту,
везде огни и светлячки на рейде...
И здесь бы тоже... Нет, я не могу
как следует все это... Если можно,
прошу вас: не рассказывайте бате!
А то убьет... Да, положил на место.
А бабка? Нет, она уже уснула.
Не выключила даже телевизор,
и там мелькали полосы... Я сразу,
я сразу положил его на место
и лег в кровать! Не говорите бате!
Не то убьет! Ведь я же не попал!
Я промахнулся! Правда? Правда? Правда?!"5
Такой-то и такой-то. Сорок лет.
Национальность. Холост. Дети - прочерк.
Откуда прибыл. Где прописан. Где,
когда и кем был найден мертвым. Дальше
идут подозреваемые: трое.
Итак, подозреваемые - трое.
Вообще сама возможность заподозрить
трех человек в убийстве одного
весьма красноречива. Да, конечно,
три человека могут совершить
одно и то же. Скажем, сьесть цыпленка.
Но тут - убийство. И в самом том факте,
что подозренье пало на троих,
залог того, что каждый был способен
убить. И этот факт лишает смысла
все следствие - поскольку в результате
расследованья только узнаешь,
кто именно; но вовсе не о том, что
другие не могли... Ну, что вы! Нет!
Мороз по коже? Экий вздор! Но, в общем,
способность человека совершить
убийство и способность человека
расследовать его - при всей своей
преемственности видимой - бесспорно,
неравнозначны. Вероятно, это
как раз эффект их близости... О, да,
все это грустно...
Как? Как вы сказали?!
Что именно само уже число
лиц, на которых пало подозренье,
обьединяет как бы их и служит
в каком-то смысле алиби? Что нам
трех человек не накормить одним
цыпленком? Безусловно. И, выходит,
убийца не внутри такого круга,
но за его пределами. Что он
из тех, которых не подозреваешь?!
Иначе говоря, убийца - тот,
кто не имеет повода к убийству?!
Да, так оно и вышло в этот раз.
Да-да, вы правы... Но ведь это... это...
Ведь это - апология абсурда!
Апфеоз бессмысленности! Бред!
Выходит, что тогда оно - логично.
Постойте! Обьясните мне тогда,
в чем смысл жизни? Неужели в том,
что из кустов выходит мальчик в куртке
и начинает в вас палить?! А если,
а если это так, то почему
мы называем это преступленьем?
И, сверх того, расследуем. Кошмар.
Выходит, что всю жизнь мы ждем убийства,
что следствие - лишь форма ожиданья
и что преступник вовсе не преступник,
и что...
Простите, мне нехорошо.
поднимемся на палубу; здесь душно...
Да, это Ялта. Видите - вон там -
там этот дом. ну, чуть повыше, возле
мемориала... Как он освещен!
Красиво, правда?.. Нет, не знаю, сколько
дадут ему. Да, это все уже
не наше дело. Это - суд. Наверно,
ему дадут... Простите, я сейчас
не в силах размышлять о наказаньи.
мне что-то душно. Ничего, пройдет.
Да, в море будет несравненно легче.
Ливадия? Она вон там. Да, да,
Та группа фонарей. Шикарно, правда?
Да, хоть и ночью. Как? Я не расслышал.
Да, слава богу, Наконец плывем."Колхида" вспенила бурун, и Ялта -
с ее цветами, пальмами, огнями,
отпускниками, льнущими к дверям
закрытых заведений, точно мухи
к зажженным лампам, - медленно качнулась
и стала поворачиваться. Ночь
над морем отличается от ночи
над всякой сушею примерно так же,
как в зеркале встречающийся взгляд -
от взгляда на другого человека.
"Колхида" вышла в море. За кормой
струился пенистый, шипящий след,
и полуостров постепенно таял
в полночной тьме. Вернее, возвращался
к тем очертаньям, о которых нам
твердит географическая карта.Январь-февраль 1969
Великий человек смотрел в окно,
а для нее весь мир кончался краем
его широкой греческой туники,
обильем складок походившей на
остановившееся море.
Он же
смотрел в окно, и взгляд его сейчас
был так далек от этих мест, что губы
застыли точно раковина, где
таится гул, и горизонт в бокале
был неподвижен.
А ее любовь
была лишь рыбой - может и способной
пуститься в море вслед за кораблем
и, рассекая волны гибким телом,
возможно, обогнать его - но он,
он мысленно уже ступил на сушу.
И море обернулось морем слез.
Но, как известно, именно в минуту
отчаянья и начинает дуть
попутный ветер. И великий муж
покинул Карфаген.
Она стояла
перед костром, который разожгли
под городской стеной ее солдаты,
и видела, как в мареве костра,
дрожащей между пламенем и дымом,
беззвучно распадался Карфагензадолго до пророчества Катона.
1969
(1966 - 1969)
1. Э.Ларионова
Э. Ларионова. Брюнетка. Дочь
полковника и машинистки. Взглядом
напоминала взгляд на циферблат.
Она стремилась каждому помочь.
Однажды мы лежали рядом
на пляже и крошили шоколад.
Она сказала, поглядев вперед -
туда, где яхты не меняли галса -
что если я хочу, то я могу.
Она любила целоваться. Рот
напоминал мне о пещерах Карса.
Но я не испугался.
Берегу
воспоминанье это, как трофей,
уж на каком-то непонятном фронте
отбитый у неведомых врагов.
Любитель сдобных баб, запечный котофей,
Д. Куликов возник на горизонте:
на ней женился Дима Куликов.
Она пошла работать в женский хор,
а он трубит на номерном заводе.
Он - этакий костистый инженер...
А я все помню длинный коридор
и нашу свалку с нею на комоде.
И Дима - некрасивый пионер...Куда все делось? Где ориентир?
И как сегодня обнаружить то, чем
их ипостаси преображены?
В ее глазах таился странный мир,
еще самой ей непонятный. Впрочем,
не понятый и в качестве жены.
Жив Куликов. Я жив. Она - жива.
А этот мир - куда он подевался?
А может, он их будит по ночам?..
И я все бормочу свои слова.
Из-за стены несутся клочья вальса.
И дождь шумит по битым кирпичам...2. Олег Поддобрый
Олег Поддобрый. У него отец
был тренером по фехтованью. Твердо
он знал все это: выпады, укол.
Он не был пожирателем сердец.
Но, как это бывает в мире спорта,
он из офсайда забивал свой гол.
Офсайд был ночью. Мать была больна,
и младший брат вопил из колыбели.
Олег вооружился топором.
Вошел отец, и началась война.
Но вовремя соседи подоспели
и сына одолели вчетвером.Я помню его руки и лицо,
потом - рапиру с ручкой деревянной.
Мы фехтовали в кухне иногда.
Он раздобыл поддельное кольцо,
плескался в нашей коммунальной ванной...
Мы бросили с ним школу, и тогда
он поступил на курсы поваров,
а я - фрезеровал на "Арсенале".
Он пек блины в Таврическом саду.
Мы развлекались переноской дров
и продавали елки на вокзале
под Новый Год.
Потом он, на беду,
в компании с какой-то шантрапой
взял магазин и получил три года.
Он жарил свою пайку на костре.
Освободился. Пережил запой.
Работал на строительстве завода.
Был, кажется, женат на медсестре.
Стал рисовать. И будто бы хотел
учиться на художника. Местами
его пейзажи походили на -
на натюрморт. Потом он залетел
за фокусы с больничными листами.
И вот теперь - настала тишина.
Я много лет его не вижу. Сам
сидел в тюрьме, но там его не встретил.
Теперь я на свободе. Но и тут
нигде его не вижу.
По лесам
он где-то бродит и вдыхает ветер.
Ни кухня, ни тюрьма, ни институт
не приняли его. И он - исчез.
Как Дед Мороз, успев переодется.
Надеюсь, что он жив и невредим.
И вот он возбуждает интерес,
как остальные персонажи детства.
Но больше, чем они, невозвратим.3. Т.Зимина
Т.Зимина; прелестное дитя.
Мать - инженер, а батюшка - учетчик.
Я, впрочем, их не видел никогда.
Была невпечатлительна. Хотя
на ней женился пограничный летчик.
Но это было после. А беда
с ней раньше приключилась. У нее
был родственник. Какой-то из райкома.
С машиною. А предки жили врозь.
У них там было, видимо, свое.
Машина - это было незнакомо.
Ну, с этого там все и началось.
Она переживала, но потом
дела пошли как будто на поправку.
Вдали маячил сумрачный грузин.
Но вдруг он угодил в казенный дом.
Она же - отдала себя прилавку
в большой галантерейный магазин.
Белье, одеколоны, полотно
- ей нравилась вся эта атмосфера,
секреты и поклонники подруг.
Прохожие таращатся в окно.
Вдали - Дом Офицеров. Офицеры,
как птицы, с массой пуговиц, вокруг.Тот летчик, возвратившись из небес,
приветствовал ее за миловидность.
Он сделал из шампанского салют.
Замужество. Однако, в ВВС
ужасно уважается невинность,
возводится в какой-то абсолют.
И этот род схоластики виной
тому, что она чуть не утопилась.
Нашла уж мост, но грянула зима.
Канал покрылся коркой ледяной.
И вновь она к прилавку торопилась.
Ресницы опушила бахрома.
На пепельные волосы струит
сияние неоновая люстра.
Весна - и у распахнутых дверей
поток из покупателей бурлит.
Она стоит и в сумрачное русло
глядит из-за белья, как Лорелей.4. Ю. Сандул
Ю. Сандул. Добродушие хорька.
Мордашка, заострявшаяся к носу.
Наушничал. Всегда - воротничок.
Испытывал восторг от козырька.
Витийствовал в уборной по вопросу,
прикалывать ли к кителю значок.
Прикалывал. Испытывал восторг
вообще от всяких символов и знаков.
Чтил титулы и звания, до слез.
Любил именовать себя "физорг".
Но был старообразен, как Иаков,
считал своим бичем фурункулез.
Подвержен был воздействию простуд,
отсиживался дома в непогоду.
Дрочил таблицы Брадиса. Тоска.
Знал химию и рвался в институт.
Но после школы загремел в пехоту,
в секретные подземные войска.Теперь он что-то сверлит. Говорят,
на "Дизеле". Возможно и неточно.
Но точность тут, пожалуй, ни к чему.
Конечно, специальность и разряд.
Но, главное, он учится заочно.
И здесь мы приподнимем бахрому.
Он в сумерках листает "Сопромат"
и впитывает Маркса. Между прочим,
такие книги вечером как раз
особый источают аромат.
Не хочется считать себя рабочим.
Охота, в общем, в следующий класс.Он в сумерках стремится к рубежам
иным. Сопротивление металла
в теории приятнее. О да!
Он рвется в инженеры, к чертежам.
Он станет им, во что бы то ни стало.
Ну, как это... количество труда,
прибавочная стоимость... прогресс...
И вся эта схоластика о рынке...
Он лезет сквозь дремучие леса.
Женился бы. Но времени в обрез.
И он предпочитает вечеринки,
случайные знакомства, адреса."Наш будущий - улыбка - инженер".
Он вспоминает сумрачную массу
и смотрит мимо девушек в окно.
Он одинок на собственный манер.
Он изменяет собственному классу.
Быть может, перебарщиваю. Но
использованье класса напрокат
опаснее мужского вероломства.
- Грех молодости. Кровь, мол, горяча. -
я помню даже искренний плакат
по поводу случайного знакомства.
Но нет ни диспансера, ни врача
от этих деклассированных, чтоб
себя предохранить от воспаленья.
А если нам эпоха не жена,
то чтоб не передать такой микроб
из этого - в другое поколенье.
Такая эстафета не нужна.5. А. Чегодаев
А. Чегодаев, коротышка, врун.
Язык к очкам подвешенный. Гримаса
сомнения. Мыслитель. Обожал
касаться самых задушевных струн
в сердцах преподавателей - вне класса.
Чем покупал. Искал и обнажал
пороки наши с помощью стенной
с фрейдистским сладострастием (границу
меж собственным и общим не провесть).
Родители, блистая сединной,
доили знаменитую таблицу.
Муж дочери создателя и тесть
в гостиной красовались на стене
и взапуски курировали детство
то бачками, то патлами брады.
Шли дни, и мальчик впитывал вполне
полярное величье, чей соседство
и итоге принесло свои плоды.Но странные. А впрочем, борода
верх одержала (бледный исцелитель
курсисток русскиъ отступил во тьму):
и овладела раз и навсегда
романтика больших газетных литер.
Он подал в Исторический. Ему
не повезло. Он спасся из сетей,
расставленных везде военкоматом,
забился в угол. И в его мозгу
замельтешила масса областей
познания: Бионика и Атом,
проблемы Астрофизики. В кругу
своих друзей, таких же мудрецов,
он размышлял о каждом варианте:
какой из них эффектнее с лица.
Он подал в Горный. Но в конце концов
нырнул в Автодорожный, и дисканте
внезапно зазвучала хрипотца:
"Дороги есть основа... Такова
их роль в цивилизации... Не боги,
а люди их... Нам следует расти..."
Слов больше, чем предметов, и слова
найдутся для всего. И для дороги.
И он спешил их все произнести.
Один, при росте метр шестьдесят,
без личной жизни, в сутолоке парной
чем мог бы он внимание привлечь?
Он дал обет, предания гласят,
безбрачия - на всякий, на пожарный.
Однако покровительница встреч
Венера поджидала за углом
в своей миниатюрной ипостаси -
звезда, не отличающая ночь
от полудня. Женитьба и диплом.
Распределенье. В очереди к кассе
объятья новых родственников: дочь!Бескрайние таджикские холмы.
Машины роют землю. Чегодаев
рокой с неповзрослевшего лица
стирает пот оттенка сулемы,
честит каких-то смуглых негодяев.
Слова ушли. Проникнуть до конца
в их сущность он - и выбраться по ту
их сторону - не смог. Застрял по эту.
Шоссе ушло в коричневую мглу
обоими концами. Весь в поту,
он бродит ночью голый по паркету
не в собственной квартире, а в углу
большой земли, которая кругла,
с неясной мыслью о зеленых листьях.
Жена храпит... о Господи, хоть плачь...
Идет к столу и, свесясь из угла,
скрипя в душе и хорохорясь в письмах,
ткет паутину. Одинокий ткач.6. Ж. Анциферова
Анциферова. Жанна. Сложена
была на диво. В рубенсовском вкусе.
В фамилии и имени всегда
скрывалась офицерская жена.
Курсант-подводник оказался в курсе
голландской школы живописи.
Да
простит мне Бог, но все-таки как вещ
бывает голос пионерской речи!
А так мы выражали свой восторг:
"Берешь все это в руки, маешь вещь!"
и "Эти ноги на мои бы плечи!"
...Теперь вокруг нее Владивосток,сырые сопки, бухты, облака...
Медведица, глядящаяся в спальню,
и пихта, заменяющая ель.
Одна шестая вправду велика.
Ложась в постель, как циркуль в готовальню,
она глядит на флотскую шинель,
и пуговицы, блещущие в ряд,
напоминают фонари квартала
и детство и, мгновение спустя,
огромный, черный, мокрый Ленинград,
откуда прямо с выпускного бала
перешагнула на корабль шутя.Счастливица? Да. Кройка и шитье.
Работа в клубе. Рейды по горящим
осенним сопкам. Стирка дотемна.
Да и воспоминанья у нее
сливаются все больше с настоящим:
из двадцати восьми своих она
двенадцать лет живет уже вдали
от всех объектов памяти, при муже.
Подлодка выплывает их пучин.
Поселок спит. И на краю земли
дверь хлопает. И делается уже
от следствий расстояние причин.Бомбардировщик стонет в облаках.
Хорал лягушек рвется из канавы.
Позванивает горка хрусталя
во время каждой стойки на руках.
И музыка струится с Окинавы,
журнала мод страницы шевеля.7. А.Фролов
Альберт Фролов, любитель тишины.
Мать штемпелем стучала по конвертам
на почте. Что касается отца,
он пал за независимость чухны,
успев продлить фамилию Альбертом,
но не видав Альбертова лица.Сын гений свой воспитывал в тиши.
Я помню эту шишку на макушке:
он сполз на зоологии под стол,
не выяснив отсутствия души
в совместно распатроненной лягушке.
Что позже обеспечило просторполету его мыслей, каковым
он предавался вплоть до института,
где он вступил с архангелом в борьбу.
И вот, как согрешивший херувим,
он пал на землю с облака. И тут-то
он обнаружил под рукой трубу.Звук - форма продолженья тишины,
подобье развивающейся ленты.
Солируя, он скашивал зрачки
на раструб, где мерцали, зажжены
софитами, - пока аплодисменты
их там не задували - светлячки.Но то бывало вечером, а днем -
днем звезд не видно. Даже из колодца.
Жена ушла, не выстирав носки.
Старуха-мать заботилась о нем.
Он начал пить, впоследствии - колоться
черт знает чем. Наверное, с тоски,с отчаянья - но дьявол разберет.
Я в этом, к сожалению, не сведущ.
Есть и другая, кажется, шкала:
когда играешь, видишь наперед
на восемь тактов - ампулы ж, как светочь
шестнадцать озаряли... Зеркаладворцов культуры, где его состав
играл, вбирали хмуро и учтиво
черты, экземой траченые. Но
потом, перевоспитывать устав
его за разложенье колектива,
уволили. И, выдавив: "говно!"он, словно затухающее "ля",
не сделав из дальнейшего маршрута
досужих достояния очес,
как строчка, что влезает на поля,
вернее - доводя до абсолюта
идею увольнения, исчез.* * *
Второго января, в глухую ночь,
мой теплоход отшвартовался в Сочи.
Хотелось пить. Я двинул наугад
по переулкам, уходившим прочь
от порта к центру, и в разгаре ночи
набрел на ресторацию "Каскад".Шел Новый Год. Поддельная хвоя
свисала с пальм. Вдоль столиков кружился
грузинский сброд, поющий "Тбилисо".
Везде есть жизнь, и тут была своя.
Услышав соло, я насторожился
и поднял над бутылками лицо."Каскад" был полон. Чудом отыскав
проход к эстраде, в хаосе из лязга
и запахов я сгорбленной спине
сказал: "Альберт" и тронул за рукав;
и страшная, чудовищная маска
оборотилась медленно ко мне.Сплошные струпья. Высохшие и
набрякшие. Лишь слипшиеся пряди,
нетронутые струпьями, и взляд
принадлежали школьнику, в мои
как я в его косившему тетради
уже двенадцать лет тому назад."Как ты здесь оказался в несезон?"
Сухая кожа, сморщенная в виде
коры. Зрачки - как белки из дупла.
"А сам ты как?" "Я, видишь ли, Язон.
Язон, застярвший на зиму в Колхиде.
Моя экзема требует тепла..."Потом мы вышли. Редкие огни,
небес предотвращавшие с бульваром
слияние. Квартальный - осетин.
И даже здесь держащийся в тени
мой провожатый, человек с футляром.
"Ты здесь один?" "Да, думаю, один".Язон? Навряд ли. Иов, небеса
ни в чем не упрекающий, а просто
сливающийся с ночью на живот
и смерть... Береговая полоса,
и острый запах водорослей с Оста,
незримой пальмы шорохи - и вот
все вдруг качнулось. И тогда во тьме
на миг блеснуло что-то на причале.
И звук поплыл, вплетаясь в тишину,
вдогонку удалявшейся корме.И я услышал, полную печали,
"Высокую-высокую луну".Я пробудился весь в поту:
мне голос был - "Не все коту -
сказал он - масленица. Будет -
он заявил - Великий Пост.
Ужо тебе прищемят хвост".
Такое каждого разбудит.1969
Бессмысленоое, злобное, зимой
безлиственное, стадии угля
достигнувшее колером, самой
природой предназначенное для
отчаянья, - которого объем
никак не калкулируется, - но
в слепом повиновении своем
уже перебродившее, оно,
ушедшее корнями в перегной
из собственных же листьев и во тьму -
вершиною, стоит передо мной,
как символ всепригодности, к чему
никто не призывал нас, несмотря
на то, что всем нам свойственна пора,
когда различья делаются зря
для солнца, для звезды, для топора.1970
Я дважды пробуждался этой ночью
и брел к окну, и фонари в окне,
обрывок фразы, сказанной во сне,
сводя на нет, подобно многоточью
не приносили утешенья мне.Ты снилась мне беременной, и вот,
проживши столько лет с тобой в разлуке,
я чувствовал вину свою, и руки,
ощупывая с радостью живот,
на практике нашаривали брюкии выключатель. И бредя к окну,
я знал, что оставлял тебя одну
там, в темноте, во сне, где терпеливо
ждала ты, и не ставила в вину,
когда я возвращался, перерываумышленного. Ибо в темноте -
там длится то, что сорвалось при свете.
Мы там женаты, венчаны, мы те
двуспинные чудовища, и дети
лишь оправданье нашей наготе.В какую-нибудь будущую ночь
ты вновь придешь усталая, худая,
и я увижу сына или дочь,
еще никак не названных - тогда я
не дернусь к выключателю и прочьруки не протяну уже, не вправе
оставить вас в том царствии теней,
безмолвных, перед изгородью дней,
впадающих в зависимость от яви,
с моей недосягаемостью в ней.11 февраля 1971
V.S.
В Рождество все немного волхвы.
В продовольственных слякоть и давка.
Из-за банки кофейной халвы
производит осаду прилавка
грудой свертков навьюченный люд:
каждый сам себе царь и верблюд.Сетки, сумки, авоськи, кульки,
шапки, галстуки, сбитые набок.
Запах водки, хвои и трески,
мандаринов, корицы и яблок.
Хаос лиц, и не видно тропы
в Вифлеем из-за снежной крупы.И разносчики скромных даров
в транспорт прыгают, ломятся в двери,
исчезают в провалах дворов,
даже зная, что пусто в пещере:
ни животных, ни яслей, ни Той,
над Которою - нимб золотой.Пустота. Но при мысли о ней
видишь вдруг как бы свет ниоткуда.
Знал бы Ирод, что чем он сильней,
тем верней неизбежное чуда.
Постоянство такого родства -
основной механизм Рождества.То и празднуют нынче везде,
что Его приближенье, сдвигая
все столы. Не потребность в звезде
пусть еще, но уж воля благая
в человеке видна издали,
и костры пастухи разожгли.Валит снег; не дымят, но трубят
трубы кровель. Все лица, как пятна.
Ирод пьет. Бабы прячут ребят.
Кто грядет - никому не понятно:
мы не знаем примет, и сердца
могут вдруг не признать пришлеца.Но, когда на дверном сквозняке
из тумана ночного густого
возникает фигура в платке,
и Младенца, и Духа Святого
ощущаешь в себе без стыда;
смотришь в небо и видишь - звезда.Январь 1972
Он здесь бывал: еще не в галифе -
в пальто из драпа; сдержанный, сутулый.
Арестом завсегдатаев кафе
покончив позже с мировой культурой,
он этим как бы отомстил (не им,
но Времени) за бедность, униженья.
за скверный кофе, скуку и сраженья
в двадцать одно, проигранные им.И Время проглотило эту месть.
Теперь здесь людно, многие смеются,
гремя пластинки. Но пред тем, как сесть
за столик, как-то тянет оглянуться.
Везде пластмасса, никель - все не то;
в пирожных привкус бромистого натра.
Порой, перед закрытьем, из театра
он здесь бывает, но инкогнито.Когда он входит, все они встают.
Одни - по службе, прочие - от счастья.
Движением ладони от запястья
он возвращает вечеру уют.
Он пьет свой кофе - лучший, чем тогда,
и ест рогалик, примостившись в кресле,
столь вкусный, что и мертвые "о да!"
воскликнули бы, если бы воскресли.Январь 1972
(Из Марциала)
* * *
Нынче ветрено и волны с перехлестом.
Скоро осень, все изменится в округе.
Смена красок этих трогательней, Постум,
чем наряда перемена у подруги.Дева тешит до известного предела -
дальше локтя не пойдешь или колена.
Сколь же радостней прекрасное вне тела -
ни объятье невозможно, ни измена!* * *
Посылаю тебе, Постум, эти книги.
Что в столице? Мягко стелют? Спать не жестко?
Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги?
Все интриги, вероятно, да обжорство.Я сижу в своем саду, горит светильник.
Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых.
Вместо слабых мира этого и сильных -
лишь согласное гуденье насекомых.* * *
Здесь лежит купец из Азии. Толковым
был купцом он - деловит, но незаметен.
Умер быстро. Лихорадка. По торговым
он делам сюда приплыл, но не за этим.Рядом с ним легионер под грубым кварцем.
Он в сражениях империю прославил.
Сколько раз могли убить! А умер старцем.
Даже здесь не существует, Постум, правил.* * *
Пусть и вправду, Постум, курица - не птица,
но с куриными мозгами хватишь горя.
Если выпал в Империи родиться,
лучше жить в глухой провинции у моря.И от Цезаря далеко, и от вьюги,
лебезить не нужно, трусить, торопиться.
Говоришь, что там наместники - ворюги?
Но ворюги мне милей, чем кровопийцы.* * *
Этот ливень переждать с тобой, гетера,
я согласен, но давай-ка без торговли:
брать сестерций с покрывающего тела
все равно, что дранку требовать у кровли.Протекаю, говоришь? Но где же лужа?
Чтобы лужу оставлял я, не бывало.
Вот найдешь себе какого-нибудь мужа,
он и будет протекать на покрывало.* * *
Вот и прожили мы больше половины.
Как сказал мне старый раб перед таверной:
"Мы, оглядываясь, видим лишь руины."
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный.Был в горах. Сейчас вожусь с большим букетом.
Разыщу большой кувшим, воды налью им...
Как там в Ливии, мой Постум, или где там?
Неужели до сих пор еще воюем?* * *
Помнишь, Постум, у наместника сестрица?
Худощавая, но с полными ногами.
Ты с ней спал еще... Недавно стала - жрица.
Жрица, Постум, и общается с богами.Приезжай, попьем вина, закусим хлебом.
Ты расскажешь мне столичные известья.
Постелю тебе в саду под чистым небом,
и скажу, как называются созвездья.* * *
Скоро, Постум, друг твой, любящий сложенье,
долг свой давний вычитанию заплатит.
Забери из-под подушки сбереженья,
там немного, но на похороны хватит.Поезжай на вороной своей кобыле
в дом гетер под городскую нашу стену.
Дай им цену, за которую любили,
чтоб за ту же и оплакивали цену.* * *
Зелень лавра, доходящая до дрожи,
дверь распахнутая, пыльное оконце.
Стол покинутый, оставленное ложе.
Ткань, впитавшая полуденное солнце.Понт шумит за черной изгородью пиний,
чье-то судно с ветром борется у мыса.
На рассохшейся скамейке - старый Плиний.
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.Март 1972
Анне Ахматовой
Когда она в церковь впервые внесла
дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.И старец воспринял младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
младенца стояли, как зыбкая рама,
в то утро, затеряны в сумраке храма.Тот храм обступал их, как замерший лес.
От взглядов людей и от взоров небес
вершины скрывали, сумев распластаться
в то утро Марию, пророчицу, старца.И только на темя случайным лучом
свет падал младенцу; но он ни о чем
не ведал еще и посапывал сонно,
покоясь на крепких руках Симеона.А было поведано старцу сему,
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил: "Сегодня,реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
дитя: он твое продолженье и светаисточник для идолов чтящих племен,
и слава Израиля в нем," - Симеон
умолкнул. Их всех тишина обступила.
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,кружилось какое-то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами храма, как некая птица,
что в силах взлететь, но не в силах спуститься.И странно им было. Была тишина
не менее странной, чем речь. Смущена,
Мария молчала. "Слова-то какие..."
И старец сказал, повернувшись к Марии:"В лежащем сейчас на раменах твоих
паденье одних, возвышенье других,
предмет пререканий и повод к раздорам.
И тем же оружьем, Мария, которымтерзаема плоть его будет, твоя
душа будет ранена. Рана сия
даст видеть тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человеков, как некое око."Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
Мария, сутулясь, и тяжестью лет
согбенная Анна безмолвно глядели.
Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теледля двух этих женщин под сенью колонн.
Почти подгоняем их взглядами, он
шел молча по этому храму пустому
к белевшему смутно дверному проему.И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
раздался, он шаг придержал свой немного:
но там не его окликали, а Богапророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
уж ветер коснулся, и в уши упрямо
врывался шум жизни за стенами храма.Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному тверди,он слышал, что время утратило звук.
И образ младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою,как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.Март 1972
Виктору Голышеву
Птица уже не влетает в форточку.
Девица, как зверь, защищает кофточку.
Подскользнувшись о вишневую косточку,
я не падаю: сила трения
возрастает с паденьем скорости.
Сердце скачет, как белка, в хворосте
ребер. И горло поет о возрасте.
Это - уже старение.Старение! Здравствуй, мое старение!
Крови медленное струение.
Некогда стройное ног строение
мучает зрение. Я заранее
область своих ощущений пятую,
обувь скидая, спасаю ватою.
Всякий, кто мимо идет с лопатою,
ныне объект внимания.Правильно! Тело в страстях раскаялось.
Зря оно пело, рыдало, скалилось.
В полости рта не уступит кариес
Греции древней, по меньшей мере.
Смрадно дыша и треща суставами,
пачкаю зеркало. Речь о саване
еще не идет. Но уже те самые,
кто тебя вынесет, входят в двери.Здравствуй, младое и незнакомое
племя! Жужжащее, как насекомое,
время нашло, наконец, искомое
лакомство в твердом моем затылке.
В мыслях разброд и разгром на темени.
Точно царица - Ивана в тереме,
чую дыхание смертной темени
фибрами всеми и жмусь к подстилке.Боязно! То-то и есть, что боязно.
Даже когда все колеса поезда
прокатятся с грохотом ниже пояса,
не замирает полет фантазии.
Точно рассеянный взор отличника,
не отличая очки от лифчика,
боль близорука, и смерть расплывчата,
как очертанья Азии.Все, что и мог потерять, утрачено
начисто. Но и достиг я начерно
все, чего было достичь назначено.
Даже кукушки в ночи звучание
трогает мало - пусть жизнь оболгана
или оправдана им надолго, но
старение есть отрастанье органа
слуха, рассчитанного на молчание.Старение! В теле все больше смертного.
То есть, не нужного жизни. С медного
лба исчезает сияние местного
света. И черный прожектор в полдень
мне заливает глазные впадины.
Силы из мышц у меня украдены.
Но не ищу себе перекладины:
Совестно браться за труд Господень.Впрочем, дело, должно быть, в трусости.
В страхе. В технической акта трудности.
Это - влиянье грядущей трупности:
всякий распад начинается с воли,
минимум коей - основа статистики.
Так я учил, сидя в школьном садике.
Ой, отойдите, друзья-касатики!
Дайте выйти во чисто поле!Я был как все. То есть жил похожею
жизнью. С цветами входил в прихожую.
Пил. Валял дурака под кожею.
Брал, что давали. Душа не зарилась
на не свое. Обладал опорою,
строил рычаг. И пространству в пору я
звук извлекал, дуя в дудку полую.
Что бы такое сказать под занавес?!Слушай, дружина, враги и братие!
Все, что творил я, творил не ради я
славы в эпоху кино и радио,
но ради речи родной, словесности.
За каковое реченье-жречество
(сказано ж доктору: сам пусть лечится)
чаши лишившись в пиру Отечества,
нынче стою в незнакомой местности.Ветрено. Сыро, темно. И ветрено.
Полночь швыряет листву и ветви на
кровлю. Можно сказать уверенно:
здесь и кончаю я дни теряя
волосы, зубы, глаголы, суффиксы,
черпая кепкой, что шлемом суздальским,
из океана волну, чтоб сузился,
хрупая рыбу, пускай сырая.Старение! Возраст успеха. Знания
правды. Изнанки ее. Изгнания.
Боли. Ни против нее, ни за нее
я ничего не имею. Коли ж
переборщат - возоплю: нелепица
сдерживать чувства. Покамест - терпится.
Ежели что-то во мне и тешится,
это не разум, а кровь всего лишь.Данная песня не вопль отчаянья.
Это - следствие ожидания.
Это - точней - первый крик молчания,
царствие чье представляю суммою
звуков, исторгнутых прежде мокрою,
затвердевшей ныне в мертвую
как бы натуру, гортанью твердою.
Это и к лучшему. Так я думаю.Вот оно - то, о чем я глаголаю:
о превращении тела в голую
вещь! Ни горе не гляжу, ни долу я,
но в пустоту - чем ее не высветли.
Это и к лучшему. Чувство ужаса
вещи не свойственно. Так что лужица
подле вещи не обнаружится,
даже если вещица при смерти.Точно Гизей из пещеры Миноса,
выйдя на воздух и шкуру вынеся,
не горизонт вижу я - знак минуса
к прожитой жизни. Острей, чем меч его,
лезвие это, и им отрезана
лучшая часть. Так вино от трезвого
прочь убирают, и соль от пресного.
Хочется плакать. Но плакать нечего.Бей в барабан о своем доверии
к ножницам, в коих судьба матерей
скрыта. Только размер потери и
делает смертного равным Богу.
(Это суждение стоит галочки
даже в виду обнаженной парочки.)
Бей в барабан, пока держишь палочки,
с тенью своей маршируя в ногу!18 декабря 1972
I
Сказать, что ты мертва?
Но ты жила лишь сутки.
Как много грусти в шутке
Творца! едва
могу произнести
"жила" - единство даты
рожденья и когда ты
в моей горсти
рассыпалась, меня
смущает вычесть
одно из двух количеств
в пределах дня.II
Затем что дни для нас -
ничто. Всего лишь
ничто. Их не приколешь,
и пищей глаз
не сделаешь: они
на фоне белом,
не обладая телом
незримы. Дни,
они как ты; верней,
что может весить
уменьшенный раз в десять
один из дней?III
Сказать, что вовсе нет
тебя? Но что же
в руке моей так схоже
с тобой? и цвет -
не плод небытия.
По чьей подсказке
и так кладутся краски?
Навряд ли я,
бормочущий комок
слов, чуждых цвету,
вообразить бы эту
палитру смог.IV
На крылышках твоих
зрачки, ресницы -
красавицы ли, птицы -
обрывки чьих,
скажи мне, это лиц,
портрет летучий?
Каких, скажи, твой случай
частиц, крупиц
являет натюрморт:
вещей, полодов ли?
и даже рыбной ловли
трофей простерт.V
Возможно, ты - пейзаж,
и, взявши лупу,
я обнаружу группу
нимф, пляску, пляж.
Светло ли там, как днем?
иль там уныло,
как ночью? и светило
какое в нем
взошло на небосклон?
чьи в нем фигуры?
Скажи, с какой натуры
был сделан он?VI
Я думаю, что ты -
и то, и это:
звезды, лица, предмета
в тебе черты.
Кто был тот ювелир,
что бровь не хмуря,
нанес в миниатюре
на них тот мир,
что сводит нас с ума,
берет нас в клещи,
где ты, как мысль о вещи,
мы - вещь сама?VII
Скажи, зачем узор
такой был даден
тебе всего лишь на день
в краю озер,
чья амальгама впрок
хранит пространство?
А ты - лишает шанса
столь краткий срок
попасть в сачок,
затрепетать в ладони,
в момент погони
пленить зрачок.VIII
Ты не ответишь мне
не по причине
застенчивости и не
со зла, и не
затем, что ты мертва.
Жива, мертва ли -
но каждой Божьей твари
как знак родства
дарован голос для
общенья, пенья:
продления мгновенья,
минуты, дня.IX
А ты - ты лишена
сего залога.
Но, рассуждая строго,
так лучше: на
кой ляд быть у небес
в долгу, в реестре.
Не сокрушайся ж, если
твой век, твой вес
достойны немоты:
звук - тоже бркмя.
Бесплотнее, чем время,
беззвучней ты.X
Не ощущая, не
дожив до страха.
ты вьешься легче праха
над клумбой, вне
похожих на тюрьму
с ее удушьем
минувшего с грядущим,
и потому,
когда летишь на луг,
желая корму,
преобретает форму
сам воздух вдруг.XI
Так делает перо
скользя по глади
расчерченной тетради,
не зная про
судьбу своей строки,
где мудрость, ересь
смешались, но доверясь
толчкам руки,
в чьих пальцах бьется речь
вполне немая,
не пыль с цветка снимая,
но тяжесть с плечь.XII
Такая красота
и срок столь краткий,
соединясь, догадкой
кривят уста:
не высказать ясней,
что в самом деле
мир создан был без цели,
а если с ней,
то цель - не мы.
Друг-энтомолог,
для света нет иголок
и нет для тьмы.XIII
Сказать тебе "Прощай"
как форме суток?
Есть люди, чей рассудок
стрижет лишай
забвенья; но взгляни:
тому виною
лишь то, что за спиною
у них не дни
с постелью на двоих,
не сны дремучи,
не прошлое - но тучи
сестер твоих!XIV
Ты лучше, чем Ничто.
Верней: ты ближе
и зримее. Внутри же
на все сто
ты родственна ему.
В твоем полете
оно достигло плоти;
и потому
ты в сутолке дневной
достойна взгляда
как легкая преграда
меж ним и мной.1972
В те времена в стране зубных врачей,
чьи дочери выписывают вещи
из Лондона, чьи стиснутые клещи
вздымают вверх на знамени ничей
Зуб Мудрости, я, прячущий во рту
развалины почище Парфенона,
шпион, лазутчик, пятая колонна
гнилой провинции - в быту
профессор красноречия - я жил
в колледже возле Главного из Пресных
озер, куда недорослей местных
был призван для вытягиванья жил.Все то, что я писал в те времена,
сводилось неизбежно к многоточью.
Я падал, не расстегиваясь на
постель свою. И ежели я ночью
отыскивал звезду на потолке,
она, согласно правилам сгоранья,
сбегала на подушку по щеке
быстрей, чем я загадывал желанье.1972
Холуй трясется. Раб хохочет.
Палач свою секиру точит.
Тиран кромсает каплуна.
Сверкает зимняя луна.Се вид Отчества, гравюра.
На лежаке - Солдат и Дура.
Старуха чешет мертвый бок.
Се вид Отечества, лубок.Собака лает, ветер носит.
Борис у Глеба в морду просит.
Кружатся пары на балу.
В прихожей - куча на полу.Луна сверкает, зренье муча.
Под ней, как мозг отдельный, - туча...
Пускай Художник, паразит,
другой пейзаж изобразит.1972
Мой Телемак.
Троянская война
окончена. Кто победил - не помню.
Должно быть греки: столько мертвецов
вне дома бросить могут только греки...
И все-таки ведущая домой
дорога оказалась слишком длинной,
как будто Посейдон, пока мы там
теряли время, растянул пространство.
Мне неизвестно, где я нахожусь,
что предо мной. Какой-то грязный остров,
кусты, постройки, хрюканье свиней,
заросший сад, какая-то царица,
трава да камни... Милый Телемак,
все острова похожи друг на друга,
когда так долго странствуешь, и мозг
уже сбивается, считая волны,
глаз, засоренный горизонтом, плачет,
и водяное мясо застит слух.
Не помню я, чем кончилась война,
и сколько лет тебе сейчас, не помню.Расти большой, мой Телемак, расти.
Лишь боги знают, свидимся ли снова.
Ты и сейча уже не тот младенец,
перед которым я сдержал быков.
Когда б не Паламед, мы жили вместе.
Но может быть и прав он: без меня
ты от страстей Эдиповых избавлен,
и сны твои, мой Телемак, безгрешны.1972
Осенний вечер в скромном городке,
гордящемся присутствием на карте
(топограф был, наверное, в азарте
иль с дочкою судьи накоротке).Уставшее от собственных причуд,
Пространство как бы скидывает бремя
величья, ограничиваясь тут
чертами Главной улицы; а Время
взирает с неким холодом в кости
на циферблат колониальной лавки,
в чьих недрах все, что смог произвести
наш мир: от телескопа до булавки.Здесь есть кино, салуны, за углом
одно кафе с опущенною шторой;
кирпичный банк с распластанным орлом
и церковь, о наличии которой
и ею расставляемых сетей,
когда б не рядом с почтой, позабыли.
И если б здесь не делали детей,
то пастор бы крестил автомобили.Здесь буйствуют кузнечики в тиши.
В шесть вечера, как вследствие атомной
войны, уже не встретишь ни души.
Луна всплывает, вписываясь в темный
квадрат окна, что твой Экклезиаст.
Лишь изредка несущийся куда-то
шикарный бьюик фарами обдаст
фигуру Неизвестного Солдата.Здесь снится вам не женщина в трико
а собственный ваш адрес на конверте.
Здесь утром, видя скисшим молоко,
молочник узнает о вашей смерти.
Здесь можно жить, забыв про календарь,
глотать свой бром, не выходить наружу
и в зеркало глядеться, как фонарь
глядится в высыхающую лужу.1972
ПЕСНЯ НЕВИННОСТИ, ОНА ЖЕ - ОПЫТА
On a cloud I saw a child,
and he laughing said to me...
W. Blake1
Мы хотим играть на лугу в пятнашки,
не ходить в пальто, но в одной рубашке.
Если вдруг на дворе будет дождь и слякоть,
мы, готовя уроки, хотим не плакать.Мы учебник прочтем, вопреки заглавью.
То, что нам приснится, и станет явью.
Мы полюбим всех, и в ответ - они нас.
Это самое лучшее: плюс на минус.Мы в супруги возьмем себе дев с глазами
дикой лани; а если мы девы сами,
то мы юношей стройных возьмем в супруги,
и не будем чаять души в друг друге.Потому что у куклы лицо в улыбке,
мы, смеясь, свои совершим ошибки.
И тогда живущие на покое
мудрецы нам скажут, что жизнь такое.2
Наши мысли длинней будут с каждым годом.
Мы любую болезнь победим иодом.
Наши окна завешены будут тюлем,
а не забраны черной решеткой тюрем.Мы с приятной работы вернемся рано.
Мы глаза не спустим в кино с экрана.
Мы тяжелые брошки приколем к платьям.
Если кто без денег, то мы заплатим.Мы построим судно с винтом и паром,
целиком из железа и с полным баром.
Мы взойдем на борт и получим визу,
и увидим Акрополь и Мону Лизу.Потому что число континентов в мире
с временами года, числом четыре,
перемножив и баки залив горючим,
двадцать мест поехать куда получим.3
Соовей будет петь нам в зеленой чаще.
Мы не будем думать о смерти чаще,
чем ворона в виду огородных пугал.
Согрешивши, мы сами и станем в угол.Нашу старость мы встретим в глубоком кресле,
в окружении внуков и внуче. Если
их не будет, дадут посмотреть соседи
в телевизоре гибель шпионской сети.Как нас учат книги, друзья, эпоха:
завтра не может быть также плохо,
как вчера, и слово сие писати
в tempi следует нам passati.Потому что душа существует в теле,
жизнь будет лучше, чем мы хотели.
Мы пирог свой зажарим на чистом сале,
ибо так вкуснее: нам так сказали.* * *
Hear the voice of the Bard!
W. Blake4
Мы не пьем вина на краю деревни.
Мы не дадим себя в женихи царевне.
Мы в густые щи не макаем лапоть.
Нам смеяться стыдно и скушно плакать.Мы дугу не гнем пополам с медведем.
Мы на сером волке вперед не едем,
и ему не встать, уколовшись шприцем
или оземь грянувшись, стройным принцем.Зная медные трубы, мы в них не трубим.
Мы не любим подобных себе, не любим
тех, кто сделан был из другого теста.
Нам не нравится время, но чаще - место.Потому что север далек от юга,
наши мысли цепляются друг за друга.
Когда меркнет солнце, мы свет включаем,
завершая вечер грузинским чаем.5
Мы не видим всходов из наших пашен.
Нам судья противен, защитник страшен.
Нам дороже свайка, чем матч столетья.
Дайте нам обед и компот на третье.Нам звезда в глазу, что слеза в подушке.
Мы боимся короны во лбу лягушки,
бородавок на пальцах и прочей мрази.
Подарите нам тюбик хорошей мази.Нам приятней глупость, чем хитрость лисья.
Мы не знаем, зачем на деревьях листья.
И, когда их срывает Борей до срока,
ничего не чувствуем, кроме шока.Потому что тепло переходит в холод,
наш пиджак зашит, а тулуп проколот.
Не рассудок наш, а глаза ослабли,
чтоб искать отличье орла от цапли.6
Мы боимся смерти, посмертной казни.
Нам знаком прижизни предмет боязни:
пустота вероятней и хуже ада.
Мы не знаем, кому нам сказать "не надо".Наши жизни, как строчки, достигли точки.
В изголовьи дочки в ночной сорочки
или сына в майке не встать нам снами.
Наша тень длиннее, чем ночь пред нами.То не колокол бьет над угрюмым вечем!
Мы уходим во тьму, где светить нам нечем.
Мы спускаем флаги и жжем бумаги.
Дайте нам припасть напоследок к фляге.Почему все так вышло? И будет ложью
на характер свалить или Волю Божью.
Разве должно было быть иначе?
Мы платили за всех и не нужно сдачи.1972
1
Бобо мертва, но шапки недолой.
Чем объяснить, что утешаться нечем.
Мы не проколем бабочку иглой
Адмиралтейства - только изувечим.Квадраты окон, сколько ни смотри
по сторонам. И в качестве ответа
на "что стряслось" пустую изнутри
открой жестянку: "Видимо, вот это".Бобо мертва. Кончается среда.
На улицах, где не найдешь ночлега,
белым-бело. Лишь черная вода
ночной реки не принимает снега.2
Бобо мертва, и в этой строчке грусть.
Квадраты окон, арок полукружья.
Такой мороз, что коль убьт, то пусть
из огнестрельного оружья.Прощай Бобо, прекрасная Бобо.
Слеза к лицу разрезанному сыру.
Нам за тобой последовать слабо,
но и стоять на месте не под силу.Твой образ будет, знаю наперед,
в жару и при морозе-ломоносе
не уменьшатся, но наоборот
в неповторимой перспективе Росси.3
Бобо мертва. Вот чувство, дележу
доступное, но скользкое, как мыло.
Сегодня мне приснилось, что лежу
в своей кровати. Так оно и было.Сорви листок, но дату переправь:
нуль открывает перечень утратам.
Сны без Бобо напоминают явь,
и воздух входит в комнату квадратом.Бобо мертва. И хочется, уста
слегка разжав, произнести "не надо".
Наверно, после смерти - пустота.
И вероятнее, и хуже Ада.4
Ты всем была. Но потому что ты
теперь мертва, Бобо моя, ты стала
ничем - точнее, сгустком пустоты.
Что тоже, как подумаешь, немало.Бобо мертва. На круглые глаза
вид горизонта действует, как нож, но
тебя, Бобо, Кики или Заза
им не заменят. Это невозможно.Идет четверг. Я верю в пустоту.
В ней, как в Аду, но более херово.
И новый Дант склоняется к листу
и на пустое место ставит слово.1972
Если вдруг забредешь в каменную траву,
выглядящую в мраморе лучше, чем наяву,
иль замечаешь фавна, предавшегося возне
с нимфой, и оба в бронзе счастливее, чем во сне,
можешь выпустить посох из натруженных рук:
ты в Империи, друг.Воздух, пламень, вода, фавны, наяды, львы,
взятые из природы или из головы,
все, что придумал Бог и продолжать устал
мозг, превращено в камень или металл.
Это - конец вещей, это - в конце пути
зеркало, чтоб войти.Встань в свободную нишу и, закатив глаза,
смотри, как проходят века, исчезая за
углом, и как в паху прорастает мох
и на плечи ложится пыль - этот загар эпох.
Кто-то отколет руку, и голова с плеча
скатится вниз, стуча.И останется торс, безымянная сумма мышц.
Через тысячу лет живущая в нише мышь с
ломаным когтем, не одолев гранит,
выйдя однажды вечером, пискнув просеменит
через дорогу, чтоб не прийти в нору
в полночь. Ни поутру.1972
I
Дождь в Роттердаме. Сумерки. Среда.
Раскрывши зонт, я поднимаю ворот.
Четыре дня они бомбили город,
и города не стало. Города -
не люди и не прячутся в подъезде
во время ливня. Улицы, дома
не сходят в этих случаях с ума
и, падая, не призывают к мести.II
Июльский полдень. Капает из вафли
на брючину. Хор детских голосов.
Вокруг - громады новых корпусов.
У Корбюзье то общее с Люфтваффе,
что оба потрудились от души
над переменой облика Европы.
Что позабудут в ярости циклопы,
то трезво завершат карандаши.III
Как время не целебно, но культя,
не видя средств отличия от цели,
саднит. И тем сильней - от панацеи.
Ночь. Три десятилетия спустя,
мы пьем вино при крупных летних звездах
в квартире на двадцатом этаже -
на уровне, достигнутом уже
взлетевшими здесь некогда на воздух.Июль 1973, Роттердам
I
Три старухи с вязаньем в глубоких креслах
толкуют в холле о муках крестных;
пансион "Аккадемиа" вместе со
всей Вселенной плывет к Рождеству под рокот
телевизора; сунув гроссбух под локоть,
клерк поворачивает колесо.II
И восходит в свой номер на борт по трапу
постоялец, несущий в кармане граппу,
совершенный никто, человек в плаще,
потерявший память, отчизну, сына;
по горбу его плачет в лесах осина,
если кто-то плачет о нем вообще.III
Венецийских церквей, как сервизов чайных,
слышен звон в коробке из-под случайных
жизней. Бронзовый осьминог
люстры в трельяже, заросшем ряской,
лижет набрякший слезами, лаской,
грязными снами сырой станок.IV
Адриатика ночью восточным ветром
канал наполняет, как ванну, с верхом,
лодки качает, как люльки; фиш,
а не вол в изголовьи встает ночами,
и звезда морская в окне лучами
штору шевелит, покуда спишь.V
Так и будем жить, заливая мертвой
водой стеклянной графина мокрый
пламень граппы, кромсая леща, а не
птицу-гуся, чтобы нас насытил
предок хордовый Твой, Спаситель,
зимней ночью в сырой стране.VI
Рождество без снега, шаров и ели
у моря, стесненного картой в в теле;
створку моллюска пустив ко дну,
пряча лицо, но спиной пленяя,
Время выходит и волн, меняя
стрелку на башне - ее одну.VII
Тонущий город, где твердый разум
внезапно становится мокрым глазом,
где сфинксов северных южный брат,
знающий грамоте лев крылатый,
книгу захлопнув, не крикнет "ратуй!"
в плеске зеркал захлебнуться рад.VIII
Гондолу бьет о гнилые сваи.
Звук отрицает себя, слова и
слух, а также державу ту,
где руки тянутся хвойным лесом
перед мелким, но хищным бесом
и слюну леденит во рту.IX
Скрестим же с левой, вобравшей когти,
правую лапу, согнувши в локте;
жест получим, похожий на
молот в серпе - и как чорт Солохе,
храбро покажем его эпохе,
принявшей образ дурного сна.X
Тело в плаще обживает сферы,
где у Софии, Надежды, Веры
и Любви нет грядущего, но всегда
есть настоящее, сколь бы горек
не был вкус поцелуев эбре и гоек,
и города, где стопа следаXI
не оставляет, как челн на глади
водной, любое пространство сзади,
взятое в цифрах, сводя к нулю,
не оставляетследов глубоких
на площадях, как "прощай", широких,
в улицах узких, как звук "люблю".XII
Шпили, колонны, резьба, лепнина
арок, мостов и дворцов; взгляни на-
верх: увидишь улыбку льва
на охваченной ветров, как платьем, башне,
несокрушимой как злак вне пашни,
с поясом времени вместо рва.XIII
Ночь на Сан-Марко. Прохожий с мятым
лицом, сравнимым во тьме со снятым
с безымянного пальца кольцом, грызя
ноготь, смотрит, объят покоем,
в то "никуда", задержаться в коем
мысли можно, зрачку - нельзя.XIV
Там, где нигде, за его пределом
- черным, бесцветным, возможно, белым -
есть какая-то вещь, предмет.
Может быть, тело. В эпоху тренья
скорость света есть скорость зренья;
даже тогда, когда света нет.1973
ЛИТОВСКИЙ НОКТЮРН: ТОМАСУ ВЕНЦЛОВА
I
Взбаламутивший море
ветер рвется как ругань с расквашенных губ
в глубь холодной державы,
заурядное до-ре-
ми-фа-соль-ля-си-до извлекая из каменных труб.
Не-царевны-не-жабы
припадают к земле,
и сверкает звезды оловянная гривна.
И подобье лица
растекается в черном стекле,
как пощечина ливня.II
Здравствуй, Томас. То - мой
призрак, бросивший тело в гостинице где-то
за морями, гребя
против северных туч, поспешает домой,
вырываясь из Нового Света,
и тревожит тебя.III
Поздний вечер в Литве.
Из костелов бредут, хороня запятые
свечек в скобках ладоней. В продрогших дворах
куры роются клювами в жухлой дресве.
Над жнивьем Жемайтии
вьется снег, как небесных обителей прах.
Из раскрытых дверей
пахнет рыбой. Малец полуголый
и старуха в платке загоняют корову в сарай.
Запоздалый еврей
по брусчатке местечка гремит балаголой,
вожжи рвет
и кричит залихватски: "Герай!"IV
Извини за вторженье.
Сочти появление за
возвращенье цитаты в ряды "Манифеста":
чуть картавей
чуть выше октавой от странствий вдали.
Потому - не крестись,
не ломай в кулаке картуза:
сгину прежде, чем грянет с насеста
петушиное "пли".
Извини, что без спросу.
Не пяться от страха в чулан:
то, кордонов за счет, расширяет свой радиус
бренность.
Мстя, как камень колодцу кольцом грязевым,
над балтийской волной
я жужжу, точно тот моноплан -
точно Дариус и Гиренас,
но не так уязвим.V
Поздний вечер в Империи,
в нищей провинции.
Вброд
перешедшее Неман еловое войско,
ощетинившись пиками, Ковно в потемки бредет.
Багровеет известка
Трехэтажных домов, и булыжник мерцает, как
пойманный лещ.
Вверх взвивается занавес в местном театре.
И выносят на улицу главную вещь,
разделенную на три
без остатка;
сквозняк теребит бахрому
занавески из тюля. Звезда в захолустье
светит ярче: как карта, упавшая в масть.
И впадает во тьму,
по стеклу барабаня, руки твоей устье.
Больше некуда впасть.VI
В полночь всякая речь
обретает ухватки слепца;
так что даже "отчизна" наощупь - как Леди Годива.
В паутине углов
микрофоны спецслужбы в квартире певца
пишут скрежет матраца и всплески мотива
общей песни без слов.
Здесь панует стыдливость. Листва, норовя
выбрать между своей лицевой стороной и изнанкой,
возмущает фонарь. Отменив рупора,
миру здесь о себе возвещают, на муравья
наступив ненароком, невнятной морзянкой
пульса, скрипом пера.VII
Вот откуда твои
щек мучнистость, безадресность глаза,
шепелявость и волосы цвета спитой,
тусклой чайной струи.
Вот откуда вся жизнь как нетвердая честная фраза,
на пути к запятой.
Вот откуда моей,
как ее продолжение вверх, оболочки
в твоих стеклах расплывчатость, бунт голытьбы
ивняка и т. п. , очертанья морей,
их страниц перевернутость в поисках точки,
горизонта, судьбы.VIII
Наша письменность, Томас! с моим, за поля
выходящим сказуемым! с хмурым твоим
домоседством
подлежащего! Прочный, чернильный союз,
кружева, вензеля,
помесь литеры римской с кириллицей: цели
со средством,
как велел Макроус!
Наши оттиски! в смятых сырых простынях -
этих рыхлых извилинах общего мозга! -
в мягкой глине возлюбленных, в детях без нас.
Либо - просто синяк
на скуле мирозданья от взгляда подростка,
от попытки на глаз
расстоянье прикинуть от той ли литовской корчмы
до лица, многооко смотрящего мимо,
как раскосый монгол за земной частокол,
чтоб вложить пальцы в рот - в эту рану Фомы -
и, нащупав язык, на манер серафима
переправить глагол.IX
Мы похожи;
мы, в сущности, Томас, одно:
ты, коптящий окно изнутри, я, смотрящий снаружи.
Друг для друга мы суть
обоюдное дно
амальгамовой лужи,
неспособной блестнуть.
Покривись - я отвечу улыбкой кривой,
отзовусь на зевок немотой, раздирающей полость,
разольюсь в три ручья
от стоватной слезы над твоей головой.
Мы - взаимный конвой,
проступающий в Касторе Поллукс,
в просторечье - ничья,
пат, подвижная тень,
приводимая в действие жаркой лучиной,
эхо возгласа, сдача с рубля.
Чем сильнее жизнь испорчена, тем
мы в ней неразличимей
ока праздного дня.X
Чем питается призрак? Отбросами сна,
отрубями границ, шелухою цифири:
иль всегда норовит сохранить адреса.
Переулок сдвигает фасады, как зубы десна,
желтизну подворотни, как сыр простофили
пожирает лиса
темноты. Место, времени мстя
за свое постоянство жильцом, постояльцем,
жизнью в нем, отпирает засов, -
и, эпоху спустя,
я тебя застаю в замусоленной пальцем
сверхдержаве лесов
и равнин, хорошо сохраняющей мысли, черты
и особенно позу: в сырой конопляной
многоверстной рубахе, в гудящих стальных бигуди
Мать-Литва засыпает под плесом,
и ты
припадаешь к ее неприкрытой, стеклянной
поллитровой груди.XI
Существуют места,
где ничего не меняется. Это -
заменители памяти, кислый триумф фиксажа.
Там шлагбаумы на резкость наводит верста.
Там чем дальше, тем больше в тебе силуэта.
Там с лица сторожа
моложавей. Минувшее смотрит вперед
настороженным глазом подростка в шинели,
и судьба нарушителем пятится прочь
в настоящую старость с плевком на стене,
с ломотой, с бесконечностьюв форме панели
либо лестницы. Ночь
и взаправду граница, где, как татарва,
территориям прожитой жизни набегом
угрожает действительность, и наоборот
где дрова переходят в деревья и снова в дрова,
где что веко не спрчяет,
то явь печенегом
как трофей подберет.XII
Полночь. Сойка кричит
человеческим голосом и обвиняет природу
в преступленьях термометра против нуля.
Витовт, бросивший меч и похоронивший щит,
погружается в Балтику в поисках броду
к шведам. Впрочем, земля
и сама заверается молом, погнавшимся за
как по плоским ступенькам, по волнам
убежавшей свободой.
Усилья бобра
по постройке запруды венчает слеза,
расставаясь с проворным
ручейком серебра.XIII
Полночь в лиственном крае,
в губернии цвета пальто.
Колокольная клинопись. Облако в виде отреза
на рядно сопредельной державе.
Внизу
пашни, скирды, плато
черепицы, кирпич, колоннада, железо,
плюс обутый в кирзу
человек государства.
Ночной кислород
наводняют помехи, молитва, сообщенья
о погоде, известия,
храбрый Кощей
с округленными цифрами, гимны, фокстрот,
болеро, запрещенья
безымянных вещей.XIV
Призрак бродит по Каунасу. Входит в собор
выбегает наружу. Плетется по Лайсвис-аллее.
Входит в "Тюльпе", садится к столу.
Кельнер, глядя в упор,
видит только салфетки, огни бакалеи,
снег, такси на углу;
просто улицу. Бьюсь об заклад,
ты готов позавидовать. Ибо незримость
входит в моду с годами - как тела уступка душе,
как намек на грядущее, как маскхалат
Рая, как затянувшийся минус.
Ибо все в барыше
от отсутствия, от
бестелесности: горы и долы,
медный маятник, сильно привыкший к часам,
Бог, смотрящий на все это дело с высот,
зеркала, коридоры,
соглядатай, ты сам.XV
Призрак бродит бесцельно по Каунасу. Он
суть твое прибавление к воздуху мысли
обо мне,
суть пространство в квадрате, а не
энергичная проповедь лучших времен.
Не завидуй. Причисли
привиденье к родне,
к свойствам воздуха - так же, как мелкий петит
рассыпаемый в сумраке речью картавой
вроде цокота мух,
неспособный, поди, утолить аппетит
новой Клио, одетой заставой,
но ласкающий слух
обнаженной Урании.
Только она,
Муза точки в пространстве и Муза утраты
очертаний, как скаред - гроши,
в состяньи сполна
оценить постоянство: как форму расплаты
за движенье - души.XVI
Вот откуда пера,
Томас, к буквам привязанность.
Вот чем
обьясняться должно тяготенье, не так ли?
Скрепя
сердце, с хриплым "пора!"
отрывая себя от родных заболоченных вотчин,
что скрывать - от тебя!
от страницы, от букв,
от - сказать ли! - любви
звука к смыслу, бесплодности - к массе
и свободы к - прости
и лица не криви -
к рабству, данному в мясе,
во плоти, на кости,
эта вещь воспаряет в чернильной ночи эмпирей
мимо дремлющих в нише
местных ангелов:
выше
их и нетопырей.XVII
Муза точки в пространстве! Вещей, различаемых
лишь
в телескоп! Вычитанья
без остатка! Нуля!
Ты, кто горлу велишь
избегать причитанья,
превышения "ля"
и советуешь сдержанность! Муза, прими
эту арию следствия, петую в ухо причине,
то есть песнь двойнику,
и взгляни на нее и ее до-ре-ми,
там, в разреженном чине,
у себя на верху
с точки зрения воздуха.
Воздух и есть эпилог
для сетчатки - поскольку он не обитаем.
Он суть наше "домой",
восвояси вернувшийся слог.
Сколько жаброй его не хватаем,
он успешно латаем
светом взапуски с тьмой.XVIII
У всего есть предел:
горизонт - у зрачка, у отчаянья - память,
для роста -
расширение плеч.
Только звук отделяться способен от тела,
вроде призрака, Томас.
Сиротство
звука, Томас, есть речь!
Оттолкнув абажур,
глядя прямо перед собою,
видишь воздух:
анфас
сонмы тех, кто губою
наследил в нем
до нас.XIX
В царстве воздуха! В равенстве слога глотку
кислорода. В прозрачных и сбившихся в облак
наших выдохах. В том
мире, где, точно сны к потолку,
к небу льнут наши "о!", где звезда обретает свой
облик,
продиктованный ртом!
Вот чем дышит вселенная. Вот
что петух кукарекал,
упреждая гортани великую сушь!
Воздух - вещь языка.
Небосвод -
хор согласных и гласных молекул,
в просторечии - душ.XX
Оттого-то он чист.
Нет на свете вещей, безупречней
(кроме смерти самой)
отбеляющих лист.
Чем белее, тем бесчеловечней.
Муза, можно домой?
Восвояси! В тот край,
где бездумный Борей попирает беспечно трофеи
уст. В грамматику без
препинания. В рай
алфавита, трахеи.
В твой безликий ликбез.XXI
Над холмами Литвы
что-то вроде мольбы за весь мир
раздается в потемках: бубнящий, глухой, невеселый
звук плывет над селеньями в сторону Куршской
косы.
То Святой Казимир
с Чудотворным Николой
коротают часы
в ожидании зимней зари.
За пределами веры,
из своей стратосферы,
Муза, с ними призри
на певца тех равнин, в рукотворную тьму
погруженных по кровлю,
на певца усмиренных пейзажей.
Обнеси своей стражей
дом и сердце ему.1973
Имяреку, тебе, - потому что не станет за труд
из-под камня тебя раздобыть, - от меня, анонима,
как по тем же делам: потому что и с камня сотрут,
так и в силу того, что я сверху и, камня помимо,
чересчур далеко, чтоб тебе различать голоса -
на эзоповой фене в отечестве белых головок,
где наощупь и слух наколол ты свои полюса
в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок;
имяреку, тебе, сыну вдовой кондукторши от
то ли Духа Святого, то ль поднятой пыли дворовой,
похитителю книг, сочинителю лучшей из од
на паденье А. С. в кружева и к ногам Гончаровой,
слововержцу, лжецу, пожирателю мелкой слезы,
обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфоделей,
белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы,
одинокому сердцу и телу бессчетных постелей -
да лежится тебе, как в большом оренбургском платке,
в нашей бурой земле , местных труб проходимцу и дыма,
понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке,
и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима.
Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто.
Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо,
вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто,
чьи застежки одни и спасали тебя от распада.
Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон,
тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон
с берегов неизвестно каких. Да тебе и неважно.1973
Смерть поступает в виде пули из
магнолиевых зарослей, попарно.
Взрыв выглядит как временная пальма,
которую раскачивает бриз.Пустая вилла. Треснувший фронтон
со сценами античной рукопашной.
Пылает в море новый Фаэтон,
с гораздо меньшим грохотом упавший.И в позах для рекламного плаката
на гальке раскаленной добела
маячат неподвижные тела,
оставшись загорать после заката.21 июля 1974
Небольшая дешевая гостинница в Вашингтоне.
Постояльцы храпят, не снимая на ночь
черных очков, чтоб не видеть снов.
Портье с плечами тяжелоатлета
листает книгу жильцов, любуясь
внутренностями Троянского подержанного коня.Шелест кизилового куста
оглушает сидящего на веранде
человека в коричневом. Кровь в висках
стучит, как не принятое никем
и вернувшееся восвояси морзе.
Небо похоже на столпотворение генералов.Если когда-нибудь позабудешь
сумму углов треугольника или площадь
в заколдованном круге, вернись сюда:
амальгама зеркала в ванной прячет
сильно сдобренный милой кириллицей волапюк
и совершенно секретную мысль о смерти.1974
ДВАДЦАТЬ СОНЕТОВ К МАРИИ СТЮАРТ
I
Мари, шотландцы все-таки скоты.
В каком колене клетчатого клана
предвидилось, что двинешься с экрана
и оживишь, как статуя, сады?
И люксембургский, в частности? Сюды
забрел я как-то после ресторана
взглянуть глазами старого барана
на новые ворота и пруды.
Где встретил Вас. И в силу этой встречи,
и так как "все былое ожило
в отжившем сердце", в старое жерло
вложив заряд классической картечи,
я трачу, что осталось русской речи
на Ваш анфас и матовые плечи.II
В конце большой войны не на живот,
когда что было жарили без сала,
Мари, я видел мальчиком, как Сара
Леандр шла топ-топ на эшафот.
Меч палача, как ты бы не сказала,
приравнивает к полу небосвод
(см. светило, вставшее из вод).
Мы вышли все на свет из кинозала,
но нечто нас в час сумерек зовет
назад, в "Спартак", в чьей плюшевой утробе
приятнее, чем вечером в Европе.
Там снимки звезд, там главная - брюнет,
там две картины, очередь на обе.
И лишнего билета нет.III
Земной свой путь пройдя до середины,
я, заявившись в Люксембургский сад,
смотрю на затвердевшие седины
мыслителей, письменников; и взад -
вперед гуляют дамы, господины,
жандарм сияет в зелени, усат,
фонтан мурлычет, дети голосят,
и обратиться не к кому с "иди на".
И ты, Мари, не покладая рук,
стоишь в гирлянде каменных подруг -
французских королев во время оно -
безмолвно, с воробьем на голове.
Сад выглядит, как помесь Пантеона
со знаменитой "Завтрак на траве".IV
Красавица, которую я позже
любил сильней, чем Босуэлла - ты,
с тобой имела общие черты
(шепчу автоматически "о, Боже",
их вспоминая) внешние. Мы тоже
счастливой не составили четы.
Она ушла куда-то в макинтоше.
Во избежанье роковой черты,
я пересек другую - горизонта,
чье лезвие, Мари, острей ножа.
Над этой вещью голову держа
не кислорода ради, но азота,
бурлящего в раздувшемся зобу,
гортань... того... благодарит судьбу.V
Число твоих любовников, Мари,
превысило собою цифру три,
четыре, десять, двадцать, двадцать пять.
Нет для короны большего урона,
чем с кем - нибудь случайно переспать.
(Вот почему обречена корона;
республика же может устоять,
как некая античная колонна).
И с этой точки зренья ни на пядь
не сдвинете шотландского барона.
Твоим шотландцам было не понять,
чем койка отличается от трона.
В своем столетье белая ворона,
для современников была ты блядь.VI
Я вас любил. Любовь еще (возможно,
что просто боль) сверлит мозги мои.
Все разлетелось к черту на куски.
Я застрелиться пробовал, но сложно
с оружием. И далее, виски:
в который вдарить? Портила не дрожь, но
задумчивость. Черт! Все не по-людски!
Я вас любил так сильно, безнадежно,
как дай вам бог другими - - - но не даст!
Он, будучи на многое горазд,
не сотворит - по Пармениду - дважды
сей жар в крови, ширококостный хруст,
чтоб пломбы в пасти плавились от жажды
коснуться - "бюст" зачеркиваю - уст!VII
Париж не изменился. Плас де Вож
по-прежнему, скажу тебе, квадратна.
Река не потекла еще обратно.
Бульвар Распай по-прежнему пригож.
Из нового - концерты за бесплатно
и башня, чтоб почувствовать - ты вошь.
Есть многие, с кем свидеться приятно,
но первым прокричавши "как живешь?"В Париже, ночью, в ресторане... Шик
подобной фразы - праздник носоглотки.
И входит айне кляйне нахт мужик,
внося мордоворот в косовортке.
Кафе. Бульвар. Подруга не плече.
Луна, что твой генсек в параличе.VIII
На склоне лет, в стране за океаном
(открытой, как я думаю, при Вас),
деля помятый свой иконостас
меж печкой и продавленным диваном,
я думаю, сведи удача нас,
понадобились вряд ли бы слова нам:
ты просто бы звала меня Иваном,
и я бы отвечал тебе "Аlаs".
Шотландия нам стлала бы матрас.
Я б гордым показал тебя славянам.
В порт Глазго, караван за караваном,
пошли бы лапти, пряники, атлас.
Мы встретилиси бы вместе смертный час.
Топор бы оказался деревянным.IХ
Равнина. Трубы. Входят двое. Лязг
сражения."Ты кто такой?" - "А сам ты?"
"Я кто такой?" - "Да, ты." - "Мы протестанты."
"А мы - католики." - "Ах, вот как!" Хряск!
Потом везде валяются останки.
Шум нескончаемых вороньих дрязг.
Потом - зима, узорчатые санки,
примерка шали: "Где это - Дамаск?"
"Там, где самец-павлин прекрасней самки."
"Но даже там он не проходит в дамки"
(за шашками - передохнув от ласк).
Ночь в небольшом по-голливудски замке.Опять равнина. Полночь. Входят двое.
И все сливается в их волчьем вое.Х
Осенний вечер. Якобы с Каменой.
Увы, не поднимающей чела.
Не в первый раз. В такие вечера
все в радость, даже хор краснознаменный.
Сегодня, превращаясь во вчера,
себя не утруждает переменой
пера, бумаги, жижицы пельменной,
изделия хромого бочара
из Гамбурга. К подержанным вещам,
имеющим царапины и пятна,
у времени чуть больше, вероятно,
доверия, чем к свежим овощам.
Смерть, скрипнув дверью, станет на паркете
в посадском, молью траченом жакете.ХI
Лязг ножниц, ощущение озноба.
Рок, жадный до каракуля с овцы,
что брачные, что царские венцы
снимает с нас. И головы особо.
Прощай, юнцы, их гордые отцы,
разводы, клятвы верности до гроба.
Мозг чувствует, как башня небоскреба,
в которой не общаются жильцы.
Так пьянствуют в Сиаме близнецы,
где пьет один, забуревают - оба.
Никто не прокричал тебе "Атас!"
И ты не знала "я одна, а вас...",
Глуша латынью потолок и бога,
увы, Мари, как выговорить "много".ХII
что делает историю? - Тела.
Искусство? - Обезглавленное тело.
Взять Шиллера: Истории влетело
от Шиллера. Мари, ты не ждала,
что немец, закусивши удила,
поднимет старое, по сути, дело:
ему-то вообще какое дело,
кому дала ты или не дала?Но, может, как любая немчура,
наш Фридрих сам страшился топора.
А во-вторых, скажу тебе, на свете
ничем (вообрази это), опричь
Искусства, твои стати не постичь.
Историю отдай Елизавете.ХIII
Баран трясет кудряшками (они же
- руно), вдыхая запахи травы.
Вокруг Гленкорны, Дугласы и иже.
В тот день их речи были таковы:
"Ей отрубили голову. Увы."
"Представьте, как рассердятся в Париже."
"Французы? Из-за чьей-то головы?
Вот если бы ей тяпнули пониже..."
"Так не мужик ведь. Вышла в неглиже."
"Ну, это, как хотите, не основа..."
"Бесстыдство! Как просвечивала жэ!"
"Что ж, платья, может, не было иного."
"Да, русским лучше; взять хоть Иванова:
звучит как баба в каждом падеже."ХIV
Любовь сильней разлуки, но разлука
длинней любви. Чем статнее гранит,
тем явственней отсутствие ланит
и прочего. Плюс запаха и звука.
Пусть ног тебе не вскидывать в зенит:
на то и камень (это ли не мука?)
Но то, что страсть, как Шива шестирука,
бессильна - юбку он не извинит.Не от того, что столько утекло
воды и крови (если б голубая!),
Но от тоски расстегиваться врозь
воздвиг бы я не камень, но стекло,
Мари, как воплощение гудбая
и взгляда, проникающего сквозь.ХV
Не то тебя, скажу тебе, сгубило,
Мари, что женихи твои в бою
поднять не звали плотников стропила;
не "ты" и "вы", смешавшиеся в "ю";
не чьи-то симпатичные чернила;
не то, что - за печатями семью -
Елизавета Англию любила
сильней, чем ты Шотландию свою
(замечу в скобках, так оно и было);
не песня та, что пела соловью
испанскому ты в камере уныло.
Они тебе заделали свинью
за то, чему не видели конца
в те времена: за красоту лица.ХVI
Тьма скрадывает, сказано, углы.
Квадрат, возможно, делается шаром,
и, на ночь глядя залитым пожаром,
багровый лес незримому курлы
беззвучно внемлет порами коры;
лай сеттера, встревоженного шалым
сухим листом, возносится к Стожарам,
смотрящим на озимые бугры.Немногое, чем блазнилась слеза,
сумело уцелеть от перехода
в сень перегноя. Вечному перу
из всех вещей, бросавшихся в глаза,
осталось следовать за временами года,
петь на голос "Унылую пору".ХVII
То, что исторгло изумленный крик
из аглицкого рта, что к мату
склоняет падкий на помаду
мой собственный, что отвернуть на миг
Филиппа от портрета лик
заставило и снарядить Армаду,
то было - - - не могу тираду
закончить - - - в общем, твой парик,
упавший с головы упавшей
(дурная бесконечность), он,
твой суть единственный поклон,
пускай не вызвал рукопашной
меж зрителей, но был таков,
что поднял на ноги врагов.ХVIII
Для рта, проговорившего "прощай"
тебе, а не кому-нибудь, не все ли
одно, какое хлебово без соли
разжевывать впоследствии. Ты, чай,
привычная не к доремифасоли.
А, если что не так - не осерчай:
язык, что крыса, копошиться в соре,
выискивает что-то невзначай.Прости меня, прелестный истукан.
Да, у разлуки все-таки не дура
губа (хоть часто кажется - дыра):
меж нами - вечность, также - океан.
Причем, буквально. Русская цензура.
Могли бы обойтись без топора.ХIХ
Мари, теперь в шотландии есть шерсть
(все выглядит, как новое, из чистки).
Жизнь бег свой останавливает в шесть,
на солнечном не сказываясь диске.
В озерах - и по-прежнему им несть
числа - явились монстры (василиски).
И скоро будет собственная нефть,
шотландская, в бутылках из-под виски.
Шотландия, как видишь, обошлась.
И Англия, мне думается, тоже.
И ты в саду французском непохожа
на ту, с ума сводившую вчерась.
И дамы есть, чтоб предпочесть тебе их,
но непохожие на вас обеих.ХХ
Пером простым, неправда, что мятежным
я пел про встречу в некоем саду
с той, кто меня в сорок восьмом году
с экрана обучала чувствам нежным.
Предоставляю вашему суду:
a) был ли он учеником прилежным,
b) новую для русского среду,
c) слабость к окончаниям падежным.В Непале есть столица Катманду.
Случайное, являясь неизбежным,
приносит пользу всякому труду.Ведя ту жизнь, которую веду,
я благодарен бывшим белоснежным
листам бумаги, свернутым в дуду.1974
Боясь расплескать, проношу головную боль
В сером свете зимнего полдня вдоль
Оловянной реки, уносящей грязь к океану,
Разделившему нас с тем размахом, который глаз
Убеждает в мелочных свойствах масс.
Как заметил гном великану.В на-попа поставленном царстве, где мощь крупиц
Выражается дробью подметок и взглядом ниц,
Испытующим прочность гравия в новом свете,
Все, что помнит твердое тело - чужого бедра тепло
Да сухой букет на буфете.Автостадо гремит; и глотает свой кислород,
Схожий с локтем на вкус, углекислый рот;
Свет лежит на зрачке, точно пыль на свечном огарке.
Голова болит, голова болит.
Ветер волосы шевелит
На больной голове моей в буром парке.1974
Вижу колонны замерших звуков,
гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалиях убранный труп:
в смерть уезжает пламенный Жуков.Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей,
блеском маневра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо в опале,
как Велизарий или Помпей.Сколько он пролил крови солдатской
в землю чужую! Что ж, горевал?
Вспомнил ли их, умирающий в штатской
белой кровати? Полный провал.
Что он ответит, встретившись в адской
области с ними? "Я воевал".К правому делу Жуков десницы
больше уже не приложит в бою.
Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою.Маршал! Поглотит алчная Лета
эти слова и твои прахоря.
Все же прими - жалкая лепта
Родину спасшему, вслух говоря.
Бей, барабан и военная флейта
громко свисти на манер снегиря.1974
Песчаные холмы, поросшие сосной.
Здесь сыро осенью и пасмурно весной.
Здесь море треплет на ветру оборки
свои бесцветные, да из соседских дач
порой послышится то детский плач,
то взвизгнет Лемешев из-под плохой иголки.Полынь на отмели и тростника гнилье.
К штакетнику выходит снять белье
мать-одиночка. Слышен скрип уключин:
то пасынок природы, хмурый финн,
плывет извлечь свой невод из глубин,
но невод этот пуст и перекручен.Тут чайка снизится, там промелькнет баклан.
То алюминиевый аэроплан,
уместный более средь облаков, чем птица,
стремится к северу, где бьет баклуши швед,
как губка некая вбирая серый цвет
и пресным воздухом не тяготится.Здесь горизонту придают черты
своей доступности безлюдные форты.
Здесь блеклый парус одинокой яхты,
чертя прозрачную вдали лазурь,
вам не покажется питомцем бурь,
но - заболоченного устья Лахты.И глаз, привыкший к уменьшенью тел
на расстоянии, иной предел
здесь обретает - где вообще о теле
речь не заходит, где утрат не жаль:
затем что большую предполагает даль
потеря из виду, чем вид потери.Когда умру, пускай меня сюда
перенесут. Я никому вреда
не причиню, в песке прибрежном лежа.
Объятий ласковых, тупых клешней
равно бежавшему не отыскать нежней,
застираннее и безгрешней ложа.1974
I
Ноябрь. Светило, поднявшееся натощак,
замирает на банке соды в стекле аптеки.
Ветер находит преграду во всех вещах:
в трубах, в деревьях, в движущемся человеке.
Чайки бдят на оградах, что-то клюют жиды;
неколесный транспорт ползет по Темзе,
как по серой дороге, извивающейся без нужды.
Томас Мор взирает на правый берег с тем же
вожделением, что прежде, и напрягает мозг.
Тусклый взгляд из себя прочней, чем железный мост
принца Альберта; и, говоря по чести,
это лучший способ покинуть Челси.II
Бесконечная улица, делая резкий крюк,
выбегает к реке, кончаясь железной стрелкой.
Тело сыплет шаги на землю из мятых брюк,
и деревья стоят, словно в очереди за мелкой
осетриной воли; это все, на что
Темза способна по части рыбы.
Местный дождь затмевает трубу Агриппы.
Человек, способный взглянуть на сто
лет вперед, узреет побуревший портик,
который вывеска "бар" не портит,
вереницу барж, ансамбль водосточных флейт,
автобус у галереи Тейт.III
Город Лондон прекрасен, особенно в дождь. Ни жесть
для него не преграда, ни кепка или корона.
Лишь у тех, кто зонты производит, есть
в этом климате шансы захвата трона.
Серым днем, когда вашей спины настичь
даже тень не в силах, и на исходе деньги,
в городе, где как ни темней кирпич,
молоко будет вечно белеть на сырой ступеньке,
можно, глядя в газету, столкнуться со
статьей о прохожем, попавшим под колесо,
и только найдя абзац о том, как скорбит родня,
с облегченьем подумать: "не про меня".IV
Эти слова мне диктовала не
любовь, и не Муза, но потерявший скорость
звука пытливый бесцветный голос.
Я отвечал, лежа лицом к стене.
"Как ты жил в эти годы?" - "Как буква "г" в "ого".
"Опиши свои чувства". - "Смущался дороговизны".
"Что ты любишь на свете сильнее всего?"
-"Реки и улицы - длинные вещи жизни".
"Вспоминаешь о прошлом?" - "Помню, была зима.
Я катался на санках, меня продуло".
"Ты боишься смерти?" - "Нет, это та же тьма.
Но, привыкнув к ней, не различишь в ней стула".V
Воздух живет той жизнью, которой нам не дано
уразуметь; живет своей голубою
ветренной жизнью, начинаясь над головою
и нигде не кончаясь. Взглянув в окно,
видишь шпили и трубы, кровлю, ее свинец,
это начало большого сырого мира,
где мостовая, которая нас вскормила,
собой представляет его конец
преждевременный... Брезжит рассвет. Проезжает почта.
Больше не во что верить, опричь того, что
покуда есть правый берег у Темзы, есть
левый берег у Темзы. Это - благая весть.VI
Город Лондон прекрасен, в нем всюду идут часы.
Сердце может только отстать от Большого Бена.
Темза катится к морю, разбухшая, точно вена,
и буксиры в Челси дерут басы.
Город Лондон прекрасен. Если не ввысь, то вширь
он раскинулся вниз по реке как нельзя безбрежней.
И когда в нем спишь, номера телефонов прежней
и бегущей жизни, сливаясь, дают цифирь
астрономической масти. И палец, вращая диск
зимней Луны, обретает бесцветный писк
"занято", и этот звук во много
раз неизбежней, чем голос Бога.1974
А.Б.
I
Восточный конец Империи погружается в ночь. Цикады
умолкают в траве газонов. Классические цитаты
на фронтонах неразличимы. Шпиль с крестом безучастно
чернеет, словно бутылка, забытая на столе.
Из патрульной машины, лоснящейся на пустыре,
звякают клавиши Рэя Чарльза.Выползая из недр океана, краб на пустынном пляже
зарывается в мокрый песок с кольцами мыльной пряжи,
дабы остынуть, и засыпает. Часы на кирпичной башне
лязгают ножницами. Пот катится по лицу.
Фонари в конце улицы, точно пуговицы у
расстегнутой на груди рубашки.Духота. Светофор мигает, глаз превращая в средство
передвиженья по комнате к тумбочке с виски. Сердце
замирает на время, но все-таки бьется: кровь,
поблуждав по артериям, возвращается к перекрестку.
Тело похоже на свернутую в рулон трехверстку,
и на севере поднимают бровь.Странно думать, что выжил, но это случилось. Пыль
покрывает квадратные вещи. Проезжающий автомобиль
продлевает пространство за угол, мстя Эвклиду.
Темнота извиняет отсутствие ли, голосов и проч. ,
превращая их не столько в бежавших прочь,
как в пропавших из виду.Духота. Сильный шорох набрякших листьев, от
какового еще сильней выступает пот.
То, что кажется точкой во тьме, может быть лишь одним - звездою.
Птица, утратившая гнездо, яйцо
на путой баскетбольной площадке кладет в кольцо.
Пахнет мятой и резедою.II
Как бессчетным женам гарема всесильный Шах
иизменить может только с другим гаремом,
я сменил империю. Этот шаг
продиктован был тем, что несло горелым
с четырех сторон, хоть живот крести;
с точки зренья ворон, с пяти.Дуя в полную дудку, что твой факир,
я прошел сквозь строй янычар в зеленом,
чуя яйцами холод их злых секир,
как при входе в воду. И вот с соленым
вкусом этой воды во рту,
я пересек чертуи поплыл сквозь баранину туч. Внизу
извивались реки, пылили дороги, желтели риги.
Супротив друг друга стояли, топча росу,
точно длинные строчки еще не закрытой книги,
армии, занятые игрой,
и чернели икройгорода. А после сгустился мрак.
Все погасло. Гудела турбина и ныло темя.
И пространство пятилось, точно рак,
пропуская время вперед. И времпя
шло на запад, точно к себе домой,
выпачкав платье тьмой.Я заснул. Когда я открыл глаза,
север был там, где у пчелки жало.
Я увидел новые небеса
и такую же землю. Она лежала,
как это делает отродясь
плоская вещь: пылясь.III
Одиночество учит сути вещей, ибо суть их то же
одиночество. Кожа спины благодарна коже
спинки кресла за чувство прохлады. Вдали рука на
подлокотнике деревенеет. Дубовый лоск
покрывает костяшки суставов. Мозг
бьется, как льдинка о край стакана.Духота. На ступеньках закрытой биллиардной некто
вырывает из мрака свое лицо пожилого негра,
чиркая спичкой. Белозубая колоннада
Окружного Суда, выходящая на бульвар,
в ожидании вспышки случайных фар
утопает в пышной листве. И надовсем пылают во тьме, как на празднике Валтасара,
письмена "Кока-колы". В заросшем саду курзала
тихо журчит фонтан. Изредка вялый бриз,
не сумевши извлечь из прутьев простой рулады,
шебуршит газетой в литье ограды,
сооруженной, бесспорно, изспинок старых кроватей. Духота. Опирающийся на ружье,
Неизвестный Союзный Солдат делается еще
более неизвестным. Траулер трется ржавой
переносицей о бетонный причал. Жужжа,
вентилятор хватает горячий воздух США
металлической жаброй.Как число в уме, на песке оставляя след,
океан громоздится во тьме, миллионы лет
мертвой зыбью баюкая щепку. И если резко
шагнуть с дебаркадера вбок, вовне,
будешь долго падать, руки по швам; но не
воспоследует всплеска.IV
Перемена империи связана с гулом слов,
с выделеньем слюны в результате речи,
с лобачевской суммой чужих углов,
с возрастанием иподволь шансов встречи
параллельных линий (обычной на
полюсе). И она,перемена, связана с колкой дров,
с превращеньем мятой сырой изнанки
жизни в сухой платяной покров
(в стужу - из твида, в жару - из нанки),
с затвердевающим под орех
мозгом. Вообще из всехвнутренностей только одни глаза
сохраняют свою студенистость. Ибо
перемена империи связана с взглядом за
море (затем что внутри нас рыба
дремлет); с фактом, что ваш пробор,
как при взгляде в упорв зеркало, влево сместился... С больной десной
и с изжогой, вызванной новой пишей.
С сильной матовой белизной
в мыслях - суть отраженьем писчей
гладкой бумаги. И здесь перо
рвется поведать просходство. Ибо у вас в руках
то же перо, что и прежде. В рощах
те же растения. В облаках
тот же гудящий бомбардировщик,
летящий неведомо что бомбить.
И сильно хочется пить.V
В городках Новой Англии, точно в вышедших из прибоя,
вдоль всего побережья, поблескивая рябою
чешуей черепицы и дранки, уснувшими косяками
стоят в темноте дома, угодивши в сеть
континента, который открыли сельдь
и треска. Ни треска, нисельдь, однако же, тут не сподобились гордых статй,
невзирая на то, что было бы проще с датой.
Что касается местного флага, то он украшен
тоже не ими и в темноте похож,
как сказал бы Салливен, на чертеж
в тучи задранных башен.Духота. Человек на веранде с обмотанным полотенцем
горлом. Ночной мотылек всем незавидным тельцем,
ударяясь в железную сетку, отскакивает, точно пуля,
посланная природой из невидимого куста
в самое себя, чтоб выбить одно из ста
в середине июля.Потом что часы продолжают идти непрерывно, боль
затухает с годами. Если время играет роль
панацеи, то в силу того, что не терпит спешки,
ставши формой бессоницы: пробираясь пешком и вплавь,
в полушарьи орла сны содержат дурную явь
полушария решки.Духота. Неподвижность огромных растений, далекий лай.
Голова, покачнувшись, удерживает на край
памяти сползшие номера телефонов, лица.
В настоящих трагедиях, где занавес - часть плаша,
умирает не гордый герой, но, по швам треща
от износу, кулиса.VI
Потому что поздно сказать "прощай"
и слышать что-либо в ответ, помимо
эха, звчащего как "на-чай"
времени и пространству, мнимо
величавым и возводящим в куб
все, что сорвется с губ,я пишу эти строки, стремясь рукой,
их выводящей почти вслепую,
на секунду опередить "на кой",
с оных готовое губ в любую
минуту слететь и поплыть сквозь ночь,
увеличиваясь и проч.Я пишу из Империи, чьи края
опускаются в воду. Снявши пробу с
двух океанов и континентов, я
чувствую то же, погчти, что глобус.
То есть дальше некуда. Дальше - ряд
звезд. И они горят.Лучше взглянуть в телескоп туда,
где присохла к изнанке листка улитка.
Говоря "бесконечность", ввид всегда
я имел искусство деленья литра
без осатка на три при свете звезд,
а не избыток верст.Ночь. В парвеноне хрипит "ку-ку".
Легионы стоят, прислонясь к когортам,
форумы - к циркам. Луна вверху,
как пропавший мяч над безлюдным кортом.
Голый паркет - как мечта ферзя.
Без мебели жить нельзя.VII
Только затканный сплошь паутиной угол имеет право
именоваться прямым. Только услышав "браво",
с полу встает актер. Только найдя опору,
тело способно поднять вселенную на рога.
Только то тело движеся, чья нога
перпендикулярна полу.Духота. Толчея тараканов в амфитеатре усклой
цинковой раковины перед бесцветной тушей
высохшей губки. Поворачивая корону,
медный кран, словно цезарево чело,
низвергает на них не щадящую ничего
водяную колонну.Пузырьки на стенках стакана похожи на слезы сыра.
Несомненно, прозрачной вещи присуща сила
тяготения вниз, как и плотной инертной массе.
Даже девять-восемьдесят одна, журча,
преломляет себя на манер луча
в человеческом мясе.Только грудо белых тарелок выглядит на плите,
как упавшая пагода в профиль. И только те
вещи чтимы пространством, чьи черты повторимы: розы.
Если видишь одну, видишь немедля две:
насекомые ползают, в алой жужжа ботве, -
пчелы, осы, стрекозы.Духота. Даже тень на стене, уж на что слаба,
повторяет движенье руки, утирающей пот со лба.
Запах старого тела острей, чем его очертанья. Трезвость
мысли снижается. Мозг в суповой кости
тает. И некому навести
взгляда на резкость.VIII
Сохрани на холодные времена
эти слова, на времена тревоги!
Человек выживает, как фиш на песке: она
уползает в кусты и, встав на кривые ноги,
уходит, как от пера строка,
в недра материка.Усть крылатые львы, женогрудые сфинксы. Плюс
ангелы в белом и нимфы моря.
Для того, на чьи плечи ложится груз
темноты, жары и - сказать ли - горя,
они разбегающихся милей
от брошенных слов нулей.Даже то пространство, где негде сесть,
как звезда в эфире, приходит в ветхость.
Но пока существует обвь, есть
то, где можно стоять, поверхность,
суша. И внемлют ее пески
тихой песне трески:"Время больше пространства. Протсранство - вещь.
Время же, в сущности, ысль о вещи.
Жизнь - форма времени. Карп и лещ -
сгустки его. И товар похлеще -
сгустки. Включая волну и твердь
суши. Включая смерть.Иногда в том хаосе, в свалке дней,
возникает звук, раздается слово.
То ли "любить", то ли просто "эй".
Но пока разобрать успеваю, снова
все сменяется рябью слепых полос,
как от твоих волос".IX
Человек размышляет о собственной жизни, как ночь о лампе.
Мысль выходит в определенный момент за рамки
одного из двх полушарий мозга
и сползает, как одеяло, прочь,
обнажая неведомо что, точно локоть; ночь,
безсловно, громоздка,но не столь бесконечна, чтоб точно хватить на оба.
Понемногу африка мозга, его европа,
азия мозга, а также другие капли
в обитаемом море, осью скрипя сухой,
обращаются мятой своей щекой
к элекрической уапле.Чу, смотри: Алладин произносит "сезам" - перед ним золотая груда,
Цезарь бродит по спящему форуму, кличет Брута,
соловей говорит о любви богдыхану в беседке; в круге
лампы дева качает ногой колыбель; нагой
папуас отбивает одной ногой
на песке буги-вуги.Духота. Так, спросонья озябшим коленом пиная мрак,
понимешь внезапно в постели, что это - брак:
что за тридевять с лишним земель повернулось на бок
тело, с которым давным-давно
только и общего есть, что дно
океана и навыкнаготы; но при этом не встать вдвоем.
Потому что пока там светло, в твоем
полушарьи темно. Так сказать, одного светила
не хватает двух заурядных тел.
То есть глобс склеен, как Бог хотел.
И его не хватило.X
Опуская веки, я вижу край
ткани и локоть в момент изгиба.
Местность, где я нахожусь, есть рай,
ибо рай - это место бессилья. Ибо
это одна из таких планет,
где перспективы нет.Тронь своим пальцем конец пера,
угол стола: ты увидишь, это
вызовет боль. Там, где вещь остра,
там и находится рай предмета;
рай, достижимый при жизни лишь
тем, что вещь не продлишь.Местность, где я нахожусь, есть пик
как бы горы. Дальше - воздух, Хронос.
Сохрани эту речь, ибо рай - тупик.
Мыс, вдающийся в море. Конус.
Нос железного корабля.
Но не крикнуть "Земля!"Можно сказать лишь, который час.
Это сказав, за движеньем стрелки
тут остается следить. И глаз
тонет беззвучно в лице тарелки,
ибо часы, чтоб в раю уют
не нарушать, не бьют.То, чего нету, умножь на два:
в сумме получишь идею места.
Впрочем, поскольку они - слова,
цифры тут значат не больше жеста,
в воздухе тающего без следа,
словно кусочек льда.XI
От великих вещей остаются слова языка, свобода
в очертаньях деревьев, цепкие цифры года;
также - тело ввиду океана в бумажной шляпе.
Как хорошее зеркало, тело стоит во тьме:
на его лице, у него в уме
ничего, кроме ряби.Состоя из любви, грязных снов, страха смерти, праха,
осязая хрупкость кости, уязвимость паха,
тело служит ввиду океана цедящей семя
крайней плотью пространства: слезой скулу серебря,
человек есть конец самого себя
и вдается во Время.Восточный конец Империи погружается в ночь - по горло.
Пара раковин внемлет улиткам его глагола:
то есть, слышит собственный голос. Это
развивает связки, но гасит взгляд.
Ибо в чистом времени нет преград,
порождающих эхо.Духота. Только если, вздохнувши, лечь
на спину, можно направить сухую речь
вверх - в наравленьи исконно немых губерний.
Только мысль о себе и о большой стране
вас бросает в ночи от стены к стене,
на манер колыбельной.Спи спокойно поэтому. Спи. В этом смысле - спи.
Спи, как спят только те, кто сделал свое пи-пи.
Страны путают карты, привыкнув к чужим широтам.
И не спрашивай, если скрипнет дверь,
"Кто там?" - и никогда не верь
отвечающим, кто там.XII
Дверь скрипит. На пороге стоит треска.
Просит пить, естественно, ради Бога.
Не отпустишь прохожего без куска.
И дорогу покажешь ему. Дорога
извивается. Рыба уходит прочь.
Но другая, точь-в-точькак ушедшая пробует дверь носком.
(Меж собой две рыбы, что два стакана).
И всю ночь идут они косяком.
Но живущий около океана
знает, как спать, приглушив в ушах
мерный тресковый шаг.Спи. Земля не кругла. Она
проста длинна: бугорки, лощины.
А длинней земли - океан: волна
набегает порой, как на лоб морщины,
на песок. А земли и волны длинней
лишь вереница дней.И ночей. А дальше - туман густой:
рай, где есть ангелы, ад, где черти.
Но длинней стократ вереницы той
мысли о жизни и мысль о смерти.
Этой последней длинней в сто раз
мысль о Ничто; но глазвряд ли проникнет туда, и сам
закрывается, чтобы увидеть вещи.
Только так - во сне - и дано глазам
к вещи привыкнуть. И сны те вещи
или зловещи - смотря, кто спит.
И дверью треска скрипит.1975
Октавио Пасу
Гувернавака
В саду, где М. , французский протеже,
имел красавицу густой индейской крови,
сидит певец, прибывший издаля.
Сад густ, как тесно набранное "Ж".
Летает дрозд, как сросшиеся брови.
Вечерний воздух звонче хрусталя.Хрусталь, заметим походя, разбит.
М. был здесь императором три года.
Он ввел хрусталь, шампанское, балы.
Такие вещи скрашивают быт.
Затем респубдиканская пехота
М. расстреляла. Грустное курлыдоносится из плотной синевы.
Селяне околачивают груши.
три белых утки плавают в пруду.
Слух различает в ропоте листвы
жаргон, которым пользуются души,
общаясь в переполненном Аду.* * *
Отбросим пальмы. Выделив платан,
представим М. , когда перо отброисив,
он скидывает шелковый шлафрок
и думает, что делает братан
(и тоже император) Франц-Иосиф,
насвистывая с грустью "Мой сурок"."С приветом к вам из Мексики. Жена
сошла с ума в Париже. За стеною
дворца стрельба, пылают петухи.
Столица, милый брат, окружена
повстанцами. И мой сурок со мною.
И гочкис популярнее сохи.И то сказать, третичный известняк
известен как отчаянная почва.
Плюс экваториальная жара.
Здесь пуля есть естественный сквозняк.
Так чувствуют и легкие, и почка.
Потею, и слезает кожура.Опричь того, мне хочется домой.
Скучаю по отеческим трущобам.
Пошлите альманахов и поэм.
меня убьют здесь, видимо. И мой
сурок со мною, стало быть. Еще вам
моя мулатка кланяется. М."* * *
Конец июля прячется в дожди,
как собеседник в собственные мысли.
Что, впрочем, вас не трогает в стране,
где меньше впереди, чем позади.
Бренчит гитара. Улицы раскисли.
Прохожий тонет в желтой пелене.Включая пруд, все сильно заросло.
Кишат ужи и ящерицы. В кронах
клубятся птицы с яйцами и без.
что губит все динестии - число
наследников при недостатке в тронах.
И наступают выборы и лес.М. не узнал бы местности. Из ниш
исчезли бюсты, портики пожухли,
стена осела деснами в овраг.
Насытишь взгляд, но мысль не удлиннишь.
Сады и парки переходят в джунгли.
И с губ срывается невольно: рак.1867
В ночном саду под гроздью зреющего манго
Максимильян танцует то, что станет танго.
Тень воз-вращается подобьем бумеранга,
температура, как подмышкой, тридцать шесть.Мелькает белая жилетная подкладка.
Мулатка тает от любви, как шоколадка,
в мужском обьятии посапывая сладко.
Где надо - гладко, где надо - шерсть.Вночной тиши под сенью девственного леса
Хуарец, действуя как двигатель прогресса,
забывшим начисто, как выглядят два песо,
пеонам новые винтовки выдает.Затворы клацают; в расчерченной на клетки
Хуарец ведомости делает отметки.
И попугай весьма тропической расцветки
сидит на ветке и так поет:"Презренье к ближнему у нюхающих розы
пускай не лучше, но честней гражданской позы.
И то и это порождает кровь и слезы.
Тем паче в тропиках у нас, где смерть, увы,распространяется, как мухами - зараза,
иль как в кафе удачно брошенная фраза,
и где у черепа в кустах всегда три глаза,
и в каждом - пышный пучок травы".Мерида
Корчневый город. Веер
пальмы и черепица
старых построек.
С кафе начиная, вечер
входит в него. Садится
за пустующий столик.В позлащенном лучами
ультрамарине неба
колокол, точно
кто-то бренчит ключами:
звук, исполненный неги
для бездомного. Точказагорается рядом
с колокольней собора.
Видимо, Веспер.
Проводив его взглядом,
полным путь не укора,
но сомнения, вечердопивает свой кофе,
красящий его скулы.
Платит за эту
чашку. Шляпу на брови
надвинув, встает со стула,
складывает газетуи выходит. Пустая
улица провожает
длинную в черной
паре фигуру. Стая
теней его окружает
под навесом - никчемныйсброд: дурные манеры,
пятна, драные петли.
Он бросает устало:
"Господа офицеры,
Выступайте не медля.
Время настало.А теперь - врассыпную.
Вы, полковник, что значит
этот луковый запах?"
Он отвязывает вороную
лошадь. И скачет
дальше на Запад.В отеле "Континенталь"
Победа Мондриана. За стеклом -
пир кубатуры. Воздух или выпит
под девяносто градусов углом,
иль щедро залит в параллелепипед.
В проем оконный вписано, бедро
красавицы - последнее оружье:
раскрыв халат, напоминает про
пускай не круг хотя, но полукружье,
но сектор циферблата.
Говоря
насчет ацтеков, слава краснокожим
за честность вычесть из календаря
дни месяца, в которые "не можем"
в платоновой пещере,где на брата
приходится кусок пиэрквадрата.Мексиканский романсеро
Кактус,пальма,агава.
Солнце встает с Востока,
улыбаясь лукаво,
а приглядись - жестоко.Испепеленные скалы,
почва в мертвой коросте.
Череп в его оскале!
И в лучах его - кости!С голой шеей,уродлив,
на телеграфном насесте
стервятник - как иероглиф
падали в буром текстеавтострады. Направо
пойдешь - там стоит агава.
Она же налево. Прямо -
груда ржавого хлама.* * *
Вечерний Мехико-Сити.
Лень и слепая сила
в нем смешаны, как в сосуде.
И жизнь течет, как текила.Улицы, лица, фары.
Каждый второй - усатый.
На Авениде Реформы
масса бронзовых статуй.Подле каждой, на кромке
тротуара, с рукою
ротянутой - по мексиканке
с грудным младенцем. Такоюфигурой - присохшим плачем -
и увенчать бы на деле
Памятник Мексике! Впрочем,
и под ним бы сидели.* * *
Сад громоздит листву и
не выдает все зною.
(Я знал, что я существую,
пока ты была со мною.)Площадь, Фонтан с рябою
нимфою. Скаты кровель.
(Покуда я был с тобою,
я видел все вещи в профиль.)Райские кущи с адом
голосов за спиною.
(Кто был все время рядом,
пока ты была со мною?)Ночь с багровой луною,
как сургуч на конверте.
(Пока ты была со мною,
я не боялся смерти.)* * *
Вечерний Мехико-Сити.
Большая любовь к вокалу.Бродячий оркестр в беседке
горланит "Гвадалахару".Веселый Мехико-Сити.
Точно картина в раме,
но неизвестной кисти,
он окружен горами.Вечерний Мехико-Сити.
Пляска горячих литер
Кока-Колы. В зените
реет Ангел-Хранитель.Здесь это связано с риском
быть подстреленным с ходу,
сделаться обелиском
и представлять Свободу.* * *
Что-то внутри, похоже,
сорвалось, раскололось.
Произнося "о Боже",
слышу собственный голос.Так страницу мараешь
ради мелкого чуда.
Так при этом взираешь
на себя ниоткуда.Это, Отче, издержки
жанра (правильней - жара).
Сдача медная с решки
безвозмездного дара.Как несзоже с мольбою!
Так, забыв рыболова,
рыба рваной губою
тщетно дергает слово.* * *
Веселый Мехико-Сити.
Жизнь течет, как текила.
Вы в харчевне сидите.
Официфнтка забылао вас и вашем омлете,
заболтавшись с брюнетом.
Впрочем, как все на свете.
По крайней мере на этом.Ибо, смерти помимо,
все, что имеет дело
с пространством - все заменимо.
И особенно тело.И этот вам уготован
жребий, как мясо с кровью.
В нищей стране никто вам
вслед не смотрит с любовью.* * *
Стелющаяся полого
грунтовая дорога,
как пыльная форма бреда,
вас приводит в Ларедо.С налитым кровью глазом
вы осядете наземь,
подломивши колени,
точно бык на арене.Жизнь бессмысленна. Или
слишком длинна. Что в силе
речь о нехватке смысла
оставляет - как числав календаре настенном.
Что удобно растеньям,
камню, светилам. Многим
предметам. Но не двуногим.К Евгению
Я был в Мексике, взбирался на пирамиды.
Безупречные геометрические громады
рассыпаны там и сям на Тегуантенекском перешейке.
Хочется верить, что их воздвигли космические пришельцы,
ибо обычно такие вещи делаются рабами.
И перешеек усеян каменными грибами.Глинянные божки, поддающиеся подделке
с необычайной легкостью, вызывающей кривотолки.
Барельефы с разными сценами, снабженные перевитым
туловищем змеи неразгаданным алфавитом
языка, не знавшего слова "или".
Что бы они рассказали, если б заговорили?Ничего. В лучшем случае, о победах
над соседним племенем, о разбитых
головах. О том, что слитая в миску
Богу Солнца людская кровь укрепляет в последнем мышцу;
что вечерняя жертва восьми молодых и сильных
обеспечивает восзод надежнее, чем будильниккк.Все,таки лучше сифилис, лучше жерла
единорогов Кортеса, чем эта жертва.
Ежели вам глаза суждено скормить воронам,
лучше если убийца убийца, а не астроном.
Вообще без испанцев вряд ли бы им случилось
толком узнать, что вообще случилось.Скушно жить, мой Евгений. Куда ни странствуй,
всюду жестокость и тупость воскликнут: "Здравствуй,
вот и мы!" Лень загонять в стихи их.
Как сказано у поэта, "на всех стихиях..."
Далеко же видел, сидя в родных болотах!
От себя добавлю: на всех широтах.Заметка для энциклопедии
Прекрасная и нищая страна.
На Западе и на Востоке - пляжи
двух океанов. Посредине - горы,
леса, известняковые равнины
и хижины крестьян. На Юге - джунгли
с руинами великих пирамид.
На Севере - плантации, ковбои,
переходящие невольно в США.
Что позволяет перейти к торговле.Предметы вывоза - марихуана,
цветной металл, посредственное кофе,
сигары под названием "Корона"
и мелочи народных мастеров.
(Прибавлю: облака). Предметы ввоза -
все прочее и, как всегда, ружье.
обзаведясь которым, как-то легче
заняться государственным устройством.История страны грустна; однако,
нельзя сказать, чтоб уникальна. Главным
злом признано вторжение испанцев
и варварское разрушенье древней
цивилизации ацтеков. Это
есть местный комплекс Золотой Орды.
С той разницею, впрочем, что испанцы
действительно разжились золотишком.Сегодня тут республика. Трехцветный
флаг развевается над президентиским
палаццо. Конституция прекрасна.
Текст со следами сильной чехарды
диктаторов лежит в Национальной
Библиотеке под зеленым, пуле-
непроницаемым стеклом - причем,
таким-же, как в роллс-ройсе президента.Что позволяет сквозь него взглянуть
в грядущее. В грядущем населенье,
бесспорно увеличится. Пеон
как прежде будет взмахивать мотыгой
под жарким солнцем. Человек в очках
листать в кофейне будет с грустью Маркса.
И ящерица на валуне, задрав
головку в небо, будет наблюдатьполет космического аппарата.
1975
Северозападный ветер его поднимает над
сизой, лиловой, пунцовой, алой
долиной Коннектикута. Он уже
не видит лакомый променад
курицы по двору обветшалой
фермы, суслика на меже.На воздушном потоке распластанный, одинок,
все, что он видит - гряду покатых
холмов и серебро реки,
вьющейся точно живой клинок,
сталь в зазубринах перекатов,
схожие с бисером городкиНовой Англии. Упавшие до нуля
термометры - словно лары в нише;
стынут, обуздывая пожар
листьев, шпили церквей. Но для
ястреба, это не церкви. Выше
лучших помыслов прихожан,он парит в голубом океане, сомкнувши клюв,
с прижатою к животу плюсною
- когти в кулак, точно пальцы рук -
чуя каждым пером поддув
снизу, сверкая в ответ глазною
ягодою, держа на Юг,к Рио-Гранде, в дельту, в распаренную толпу
буков, прячущих в мощной пене
травы, чьи лезвия остры,
гнездо, разбитую скорлупу
в алую крапинку, запах, тени
брата или сестры.Сердце, обросшее плотью, пухом, пером, крылом,
бьющееся с частотою дрожи,
точно ножницами сечет,
собственным движимое теплом,
осеннюю синеву, ее же
увеличивая за счетеле видного глазу коричневого пятна,
точки, скользящей поверх вершины
ели; за счет пустоты в лице
ребенка, замершего у окна,
пары, вышедшей из машины,
женщины на крыльце.Но восходящий поток его поднимает вверх
выше и выше. В подбрюшных перьях
щиплет холодом. Глядя вниз,
он видит, что горизонт померк,
он видит как бы тринадцать первых
штатов, он видит: изтруб поднимается дым. Но как раз число
труб подсказывает одинокой
птице, как поднялась она.
Эк куда меня занесло!
Он чувствует смешанную с тревогой
гордость. Перевернувшись накрыло, он падает вниз. Но упругий слой
воздуха его возвращает в небо,
в бесцветную ледяную гладь.
В желтом зрачке возникает злой
блеск. То есть, помесь гнева
с ужасом. Он опятьнизвергается. Но как стенка - мяч,
как падение грешника - снова в веру,
его выталкивает назад.
Его, который еще горяч!
В черт-те что. Все выше. В ионосферу
В астрономически объективный адптиц, где отсутствует кислород,
где вместо проса - крупа далеких
звезд. Что для двуногих высь,
то для пернатых наоборот.
Не мозжечком, но в мешочках легких
он догадывается: не спастись.И тогда он кричит. Из согнутого, как крюк,
клюва, похожий на визг эриний,
вырывается и летит вовне
механический, нестерпимый звук,
звук стали, впившейся в алюминий;
механический, ибо непредназначенный ни для чьих ушей:
людских, срывающейся с березы
белки, тявкающей лисы,
маленьких полевых мышей;
так отливаться не могут слезы
никому. Только псызадирают морды. Пронзительный, резкий крик
страшней, кошмарнее ре-диеза
алмаза, режущего стекло,
пересекает небо. И мир на миг
как бы вздрагивает от пореза.
Ибо там, наверху, теплообжигает пространство, как здесь, внизу,
обжигает черной оградой руку
без перчатки. Мы, восклицая "вон,
там!" видим вверху слезу
ястреба, плюс паутину, звуку
присущую, мелких волн,разбегающихся по небосводу, где
нет эха, где пахнет апофеозом
звука, особенно в октябре.
И в кружеве этом, сродни звезде,
сверкая, скованная морозом,
инеем, в серебре,опушившем перья, птица плывет в зенит,
в ультрамарин. Мы видим в бинокль отсюда
перл, сверкающую деталь.
Мы слышим: что-то вверху звенит,
как разбивающаяся посуда,
как фамильный хрусталь,чьи осколки, однако, не ранят, но
тают в ладони. И на мгновенье
вновь различаешь кружки, глазки,
веер, радужное пятно,
многоточия, скобки, звенья,
колоски, волоски -бывший привольный узор пера,
карту, ставшую горстью юрких
хлопьев, летящих на склон холма.
И, ловя их пальцами, детвора
выбегает на улицу в пестрых куртках
и кричит по-английски "Зима, зима!"1975
Михаилу Барышникову
Классический балет есть замок красоты,
чьи нежные жильцы от прозы дней суровой
пиликающей ямой оркестровой
отделены. И задраны мосты.В имперский мягкий плюш мы втисксиваем зад,
и, крылышкуя скорописью ляжек,
красавица, с которою не ляжешь,
одним прыжком выпархивает в сад.Мы видим силы зла в коричневом трико,
и ангелы добра в невыразимой пачке.
И в силах пробудить от элизийской спячки
овация Чайковского и Ко.Классический балет! Искусство лучших дней!
Когда шипел ваш грог и целовали в обе,
и мчались лихачи, и пелось бобэоби,
и ежели был враг, то был он - маршал Ней.В зрачках городовых желтели купола.
В каких рождались, в тех и умирали гнездах.
И если что-нибудь взлетало в воздух,
то был не мост, а Павлова была.Как славно в вечеру, вдали Всея Руси,
Барышникова зреть. Талант его не стерся!
Усилия ноги и судорога торса
с вращением вкруг собственной осирождают тот полет, которого душа
как в девках заждалась, готовая озлиться!
А что насчет того, где выйдет приземлиться,
земля везде тверда: рекомендую США.1976
Л. и Н. Лифшиц
I
Безупречная линия горизонта,без какого-либо изъяна.
Корвет разрезает волны профилем Франца Листа.
Поскрипывают канаты. Голая обезьяна
с криком выскакивает из кабины натуралиста.Рядом плывут дельфины. Как однажды заметил кто-то,
только бутылки в баре хорошо переносят качку.
Ветер относит в сторону окончание анекдота,
а капитан бросается с кулаками на мачту.Порой из кают-компании раздаются аккорды последней вещицы Брамса.
Штурман играет циркулем,задумавшись над прямою
линией курса. И в подзорной трубе пространство
впереди быстро смешивается с оставшимся за кормою.II
Пассажир отличается от матроса
шорохом шелкового белья,
условиями питания и жилья,
повторением какого-нибудь бессмысленного вопроса.Матрос отличаеися от лейтенанта
отсутствием эполет,
количеством лет,
нервами,перекрученными на манер каната.Лейтенант отличается от капитана
нашивками, выраженьем глаз,
фотокарточкой Бланш или Франсуаз,
чтением "Критики чистого разума", Мопассана и "Капитала".Капитан отличается от адмиралтейства
одинокими мыслями о себе,
отвращением к синеве,
воспоминаньем о длинном уик-энде,проведенном в именье тестя.И только корабль не отличается от корабля.
Перваливаясь на волнах,корабль
выглядит одновременно как дерево и журавль,
из-под ног которых ушла земля.III
Разговор в кают-компании
"Конечно, эрцгерцог монстр! Но как следует разобраться -
нельзя не признать за ним некоторых заслуг..." -
"Рабы обсуждают господ. Господа обсуждают рабство.
Какой-то порочный круг!" - "Нет,спасательный круг!""Восхитительный херес!" - "Я всю ночь не могла уснуть.
Это жуткое солнце: я сожгла себе плечи."
"...А если открылась течь? Я читал, что бывают и течи.
Представьте себе, что открылась течь и мы стали тонуть!Вам случалось тонуть,лейтенант?" - "Никогда. Но акула меня кусала." -
"Да? Любопытно... Но представьте, что - течь... И представьте себе..."
"Что ж, может это заставит подняться на палубу даму в 12-б".
"Кто она?" - "Это дочь генерал-губернатора, плывущая в Кюрасао."IV
Разговоры на палубе
"Я, профессор, тоже в молодости мечтал
открыть какой-нибудь остров, зверушку или бациллу". -
"И что же вам помешало?" - "Наука мне не под силу.
И потом - тити-мити". - "Простите?" - "Э-э... презренный металл"."Человек, он есть кто? Он вообще - комар!" -
"А скажите, месье, в России у вас, что - тоже есть резина?"
"Вольдемар, перестаньте! Вы кусаетесь, Вольдемар!
Не забывайте, что я..." - "Простите меня,кузина"."Слышишь, кореш?" - "Чего?" - "Чего это там вдали?"
"Где?" - "Да справа по борту". - "Не вижу" - "Вон там". - "А,это...
Вроде бы кит. Завернуть не найдется?" - "Не-а,одна газета...
Но оно увеличивается!Смотри!.. Оно увели..."V
Море гораздо разнообразнеее суши.
Интереснее, чем что-либо.
Изнутри, как и снаружи. Рыба
интереснее груши.На земле существуют четыре стены и крыша.
Мы боимся волка или медведя,
медведя, однако меньше, и зовем его "Миша".
А если хватает воображенья - "Федя".Ничего подобного не происходит в море.
Кита в его первозданном, диком
виде не трогает имя Боря.
Лучше звать его Диком.Море полно сюрпризов, некоторые неприятны.
Многим из них не отыскать причины:
ни свалить на Луну, перечисляя пятна,
ни на злую волю женщины или мужчины.Кровь у жителей моря холодней, чем у нас: их жуткий
вид леденит нашу кровь даже в рыбной лавке.
Если б Дарвин туда нырнул, мы б не знали закона джунглей,
либо внесли бы в оный свои поправки.VI
"Капитан, в этих местах затонул "Черный принц"
при невыясненных обстоятельствах". - "Штурман Бенц!
Ступайте в свою каюту и хорошенько проспитесь". -
"В этих местах затонул также русский "Витязь". -
"Штурман Бенц! Вы думаете,что я
шучу?" - "При невыясненных обстоя..."Неукоснительно двигается корвет.
За кормою - Европа, Азия, Африка, Старый и Новый Свет.
Каждый парус выглядит в профиль, как знак вопроса.
И пространство хранит ответ.VII
"Ирина!" - "Я слушаю". - "Взгляни-ка сюда,Ирина". -
"Я же сплю". - "Все равно. Посмотри-ка, что это там?" - "Да где?" -
"В иллюминаторе". - "Это... это, по-моему,с убмарина". -
"Но оно извивается." - "Ну и что из того? В воде
все извивается". - "Ирина!" - "Куда ты тащишь меня?! Я раздета!" -
"Да ты только взгляни!" - "О боже,не напирай!
Ну гляжу. Извивается... но ведь это... это...
Это гигантский спрут!.. И он лезет к нам! Николай!.."VIII
Море внешне безжизненно, но оно
полно чудовищной жизни, которую не дано
постичь, пока не пойдешь на дно.Что порой подтверждается сетью, тралом,
либо - пляской волн отражающих как-бы в вялом
зеркале творящееся под одеялом.Находясь на поверхности, человек может быстро плыть.
Под водою, однако,о н умеряет прыть.
Внезапно он хочет пить.Там,под водой, с пересохшей глоткой,
жизнь представляется вдруг короткой.
Под водой человек может быть лишь подводной лодкой.Изо рта вырываются пузыри.
В глазах возникает эквивалент зари.
В ушах раздается некий бесстрастный голос,считающий : раз, два, три.IX
"Дорогая Бланш, пишу тебе, сидя внутри гигантского осьминога.
Чудо, но письменные принадлежности и твоя фотокарточка уцелели.
Сыро и душно. Тем не менее не одиноко:
рядом два дикаря, и оба играют на укалеле.Главное, что темно. Когда напрягаю зренье,
различаю какие-то арки и своды. Сильно звенит в ушах.
Постараюсь исследовать систему пищеварения.
Это - единственный путь к свободе. Целую. Твой верный Жак"."Вероятно, так было в утробе... Но спасибо и за осьминога.
Ибо мог бы просто пойти на дно, либо - попасть к акуле.
Все еще в поисках. Дикари, увы, не подмога:
о чем я их не спрошу, слышу странное "хули-хули".
Вокруг бесконечные скользкие вьющиеся туннели.
Какая-то загадочная, переплетающаяся система.
Вероятно, я брежу, но вчера на панели
мне попался некто, назвавшийся капитаном Немо.""Снова Немо. Пригласил меня в гости. Я
пошел. Говорит, что он вырастил этого осьминога.
Как протест против общества. Раньше была семья,
но жена и т.д. И ему ничего иного
не осталось. Говорит, что мир потонул во зле.
Осьминог (сокращенно - Ося )карает жестокосердье
и гордыню, воцарившиеся на земле.
Обещал,что если останусь,то обрету бессмертье"."Вторник. Ужинали у Немо. Были вино, икра
(с "Принца" и с "Витязя"). Дикари подавали, скаля
зубы.Обсуждали начатую вчера
тему бессмертья, "Мысли" Паскаля, последнюю вещь в "Ла скала".
Представь себе: вечер, свечи. Со всех сторон - осьминог.
Немо с его бородой и глазами голубыми, как у младенца.
Сердце сжимается,как подумаешь,как он тут одинок..."(Здесь обрываются письма к Бланш Деларю от лейтенанта Бенца).
X
Когда корабль не приходит в определенный порт
ни в назначенный срок, ни позже,
директор компании произносит: "Черт!" -
адмиралтейство:"Боже".Оба они не правы. Но откуда им знать о том,
что приключилось. Ведь не допросишь чайку,
ни акулу с ее набитым ртом,
не направишь овчаркупо следу. И какие вообще следы
в океане? Все это сущий
бред. Еще одно торжество воды
в состязании с сушей.В океане все происходит вдруг.
Но потом еще долго волна теребит скитальцев:
доски, обломки мачты и спасательный круг;
все - без отпечатков пальцев.И потом наступает осень, за ней - зима.
Сильно дует сирокко. Лучше адвоката
молчаливые волны могут свести с ума
красотою заката.И становится ясно, что нечего вопрошать
ни посредством горла, ни с помощью радиозонда
синюю рябь, продолжающую улучшать
линию горизонта.Что-то мелькает в газетах, толкующих так и сяк
факты, которых собственно, кот наплакал.
Женщина в чем-то коричневом хватается за косяк
и оседает на пол.Горизонт улучшается. В воздухе соль и йод.
Вдалеке на волне покачивается какой-то
безымянный предмет. И колокол глухо бьет
в помещении Ллойда.1976
I
Я хотел бы жить, Фортунатус, в городе, где река
высовывалась бы из-под моста, как из рукава - рука,
и чтоб она впадала в залив, растопырив пальцы,
как Шопен, никому не показывавший кулака.Чтобы там была Опера, и чтоб в ней ветеран -
тенор исправно пел арию Марио по вечерам;
чтоб Тиран ему аплодировал в ложе, а я в партере
бормотал бы, сжав зубы от ненависти: "баран".В этом городе был бы яхт-клуб и футбольный клуб.
По отсутствию дыма из кирпичных фабричных труб
я узнавал бы о наступлении воскресенья
и долго бы трясся в автобусе, мучая в жмене руб.Я бы вплетал свой голос в общий звериный вой
там, где нога продолжает начатое головой.
Изо всех законов, изданных Хаммурапи,
самые главные - пенальти и угловой.II
Там была бы Библиотека, и в залах ее пустых
я листал бы тома с таким количеством запятых,
как количество скверных слов в ежедневной речи,
не прорвавшихся в прозу. ни, тем более, в стих,Там стоял бы большой Вокзал, пострадавший в войне,
с фасадом куда занятней, чем мир вовне,
там при виде зеленой пальмы в витрине аваиалиний
просыпалась бы обезьяна, дремлющая во мне.И когда зима, Фортунатус, облекает квартал в рядно,
я б скучал в галерее, где каждое полотно
- особенно Энгра или Давида -
как родимое выглядели пятно.В сумерках я видел бы в окне стада
мычащих автомобилей, снующих туда-сюда
мимо стройных нагих колонн с дорическою прической,
безмятежно блеющих на фронтоне Суда.III
Там была бы эта кофейня с недурным бланманже,
где, сказав, что зачем нам двадцатый век, если есть уже
девятнадцатый век, я бы видел, как взор коллеги
надолго сосредотачивается на вилке или ноже.Там должна быть та улица с деревьями в два ряда,
подьезд с торсом нимфы в нише и прочая ерунда;
и портрет висел в гостинной, давая вам представленье
о том, как хозяйка выглядела, будучи молода.Я внимал бы ровному голосу, повествующему о вещах,
не имеющему отношения к ужину при свечах,
и огонь в камельке, фортунатус, бросал бы свой багровый отблеск
на зеленое платье. Но под конец зачах.Время текущее в отличие от воды
горизонтально от вторника до среды,
в темноте нам разглаживало морщины
и стирало бы собственные следы.IV
И там были бы памятники. Я бы знал имена
не только бронзовых всадников, всунувших в стремена
истории свою ногу, но и ихних четвероногих,
учитывая отпечаток, оставленный ими нанаселении города. И с присохшей к губе
сигаретою сильно заполночь возвращаясь пешком к себе,
как цыган на ладони, по трещинам на асфальте
я гадал бы, икая, вслух о его судьбе.И когда бы меня схватили в итоге за шпионаж,
подрывную активность, бродяжничество, менаж-
а-труа, и толпа бы, беснуясь вокруг, кричала,
тыча в меня натруженными указательными: "Не наш!" -я бы втайне был счастлив, шепча про себя: "Смотри,
это твой шанс узнать, как выглядит изнутри
то, на что ты так долго глядел снаружи;
запоминай же подробности, восклицая "Vive la Patrie!"1976
(1975-1976)
Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря,
дорогой уважаемый милая, но неважно
даже кто, ибо черт лица, говоря
откровенно, не вспомнить уже, не ваш, но
и ничей верный друг вас приветствует с одного
из пяти континентов, держащегося на ковбоях;
я любил тебя больше, чем ангелов и самого,
и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих;
поздно ночью, в уснувшей далине, на самом дне,
в городке, занесенном снегом по ручку двери,
извиваясь ночью на простыне -
как не сказано ниже по крайней мере -
я взбиваю подушку мычащим "ты"
за морями, которым конца и края,
в темноте всем телом твои черты,
как безумное зеркало повторяя.Север крошит металл, но щадит стекло.
Учит гортань проговаривать "впусти".
Холод меня воспитал и вложил перо
в пальцы, чтоб их согреть в горсти.Замерзая, я вижу, как за моря
солнце садится и никого кругом.
То ли по льду каблук скользит, то ли сама земля
закругляется под каблуком.И в гортани моей, где положен смех
или речь, или горячий чай,
все отчетливей раздается снег
и чернеет, что твой Седов, "прощай".Узнаю этот ветер, налетающий на траву,
под него ложащуюся точно под татарву.
Узнаю этот лист, в придорожную грязь
падающий, как обагренный князь.
Растекаясь широкой стрелой по косой скуле
деревянного дома в чужой земле,
что гуся по полету, осень в стекле внизу
узнает по лицу слезу.
И, глаза закатывая к потолку,
я не слово о номер забыл говорю полку,
но кайсацкое имя язык шевелит во рту
шевелит в ночи, как ярлык в Орду.Это - ряд наблюдений. В углу - тепло.
Взгляд оставляет на вещи след.
Вода представляет собой стекло.
Человек страшней, чем его скелет.Зимний вечер с вином в нигде.
Веранда под натиском ивняка.
Ьтело покоится на локте,
как морена вне ледника.Через тыщу лет из-за штор моллюск
извлекут с проступившем сквозь бахрому
оттиском "доброй ночи" уст
не имевших сказать кому.Потому что каблук оставляет следы - зима.
В деревянных вещах замерзая в поле,
по прохожим себя узнают дома.
Что сказать ввечеру о грядущем, коли
воспоминанья в ночной тиши
о тпеле твоих - пропуск - когда уснула,
тело отбрасывает от души
на стену, точно тень от стула
на стену ввечеру свеча,
и под скатертью стянутым к лесу небом
над силосной башней, натертый крылом грача
не отбелишь воздух колючим снегом.Деревянный лаокоон, сбросив на время гору с
плеч, подставляет их под огромную тучу. С мыса
налетают порывы резкого ветра. Голос
старается удержать слова, взвизнув, в пределах смысла.
Низвергается дождь; перекрученные канаты
хлещут спины холмов, точно лопатки в бане.
Средиземное море шевелится за огрызками колоннады,
как соленый язык за выбитыми зубами.
Одичавшее сердце все еще бьется за два.
Каждый охотник знает, где сидят фазаны, - в лужице под лежачим.
За сегодняшним днем стоит неподвижно завтра,
как сказуемое за подлежащим.Я родился и вырос в балтийских болотах, подле
серых цинковых волн, всегда набегавших по две,
и отсюда - все рифмы, отсюда тот блеклый голос,
вьющийся между ними, как мокрый волос,
если вьется вообще. Облокотясь на локоть,
раковина ушная в них различит не рокот,
но хлопки полотна, ставень, ладоней, чайник,
кипящий на керосинке, максимум - крики чаек.
В этих плоских краях то и хранит от фальши
сердце, что скрыться негде и видно дальше.
Это только для звука пространство всегда помеха:
глаз не посетует на недостаток эха.Что касается звезд, то они всегда.
То есть, если одна, то за ней другая.
Только так оттуда и можно смотреть сюда:
вечером, после восьми, мигая.
Небо выглядит лучше без них. Хотя
освоение космоса лучше, если
с ними. Но именно не сходя
с места, на голой веранде, в кресле.
Как сказал, половину лица в тени
пряча, пилот одного снаряда,
жизни, видимо, нету нигде, и ни
на одной из них не задержишь взгляда.В городке, из которого смерть расползлась по школьной карте,
мостовая блестит, как чешуя на карпе,
на столетнем каштане оплывают тугие свечи,
и чугунный лев скучает по пылкой речи.
Сквозь оконную марлю, выцветшую олт стирки,
проступают ранки гвоздики и стрелки кирхи;
вдалеке дребезжит трамвай, как во время оно,
но никто не сходит больше у стадиона.
Настоящий конец войны - это на тонкой спинке
венского стула платье одинокой блондинки
да крылатый полет серебристой жужжащей пули,
уносящей жизни на Юг в июле.Мюнхен
Около океана, при свете свечи; вокруг
поле, заросшее клевером, щавелем и люцерной.
Ввечеру у тела, точно у Шивы, рук,
дотянуться желающих до бесценной.
Упадая в траву, сова настигает мышь,
беспричинно поскрипывают стропила.
В деревянном городе крепче спишь,
потому что снится уже только то, что было.
Пахнет свежей рыбой, к стене прилип
профиль стула, тонкая марля вяло
шевелится в окне; и луна поправляет лучом прилив,
как сползающее одеяло.М.Б.
Ты забыла деревню, затерянную в болотах
залесенной губернии, где чучел на огородах
отродясь не держат - не те там злаки,
и дорогой тоже все гати да буераки.
Баба Настя, поди, померла, и Пестерев жив едва ли,
а как жив, то пьяный сидит в подвале,
либо ладит из синки нашей кровати что-то,
говорят, калитку, не то ворота.
А зимой там колют дрова и сидят на репе,
и звезда моргает от дыма в морозном небе.
И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли
да пустое место, где мы любили.Тихотворение мое, мое немое,
однако, тяглое - на страх поводьям,
куда пожалуемся на ярмо и
кому поведаем, как жизнь проводим?
Как поздно заполночь ища глазунию
луны за шторою зажженной спичкою,
вручную стряхиваешь пыль безумия
с осколков желтого оскала в писчую.
Как эту борзопись, что гуще патоки,
там не размазывай, но с кем в колене и
в локте хотя бы преломить, опять-таки,
ломоть отрезанный, тихотворение?Темно-синее утро в заиндевевшей раме
напоминает улицу с горящими фонарями,
ледяную дорожку, перекрестки, сугробы,
толчею в раздевалке в восточном конце Европы.
Там звучит "ганнибал" из худого мешка на стуле,
сильно пахнут подмышками брусья на физкультуре;
что до черной доски, от которой мороз по коже,
так и осталась черной. И сзади тоже.
Дребезжащий звонок серебристый иней
преобразил в кристалл. Насчет параллельных линий
все оказалось правдой и в кость оделось;
неохота вставать. Никогда не хотелось.С точки зрения воздуха, край земли
всюду. Что, скашивая облака
совпадает - чем бы не замели
следы - с ощущением каблука.
Да и глаз, который глядит окрест,
скашивает, что твой серп, поля;
сумма мелких слагаемых при перемене мест
неузнаваемее нуля.
И улыбка скользнет, точно тень грача
по щербатой изгороди, пышный куст
шиповника сдерживая, но крича
жимолостью, не разжимая уст.Заморозки на почве и облысенье леса,
небо серого цвета кровельного железа.
Выходя во двор нечетного октября,
ежась, число округляешь до "ох ты бля".
Ты не птица, чтоб улететь отсюда,
потому что, как в поисках милой, всю-то
ты проехал вселенную, дальше вроде
нет страницы податься в живой природе.
Зазимуем же тут, с черной обложкой рядом,
проницаемой стужей снаружи, отсюда - взглядом,
наколов на буквы пером слова,
как сложенные в штабеля дрова.Всегда остается возможность выйти из дому на
улицу, чья коричневая длина
успокоит твой взгляд подъездами, худобою
голых деревьев, бликами луж, ходьбою.
На пустой голове бриз шевелит ботву,
и улица вдалеке сужается в букву "У",
как лицо к подбородку, и лающая собака
вылетает из подоворотни, как скомканная бумага.
Улица. Некоторые дома
лучше других: больше вещей в витринах,
и хотя бы уж тем, что если сойдешь с ума,
то, во всяком случае, не внутри них.Итак, пригревает. В памяти, как на меже,
прежде доброго злака маячит плевел.
Можно сказать, что на юге в полях уже
высевают сорго - если бы знать, где Север.
Земля под лапкой грача действительно горяча;
пахнет тесом, свежей смолой. И крепко
зажмурившись от слепящего солнечного луча,
видишь внезапно мучнистую щеку клерка,
беготню в коридоре, эмалированный таз,
человека в шляпе, сводящего хмуро брови,
и другого, со вспышкой, снимающего не нас,
но обмякшее тело и лужу крови.Если что-нибудь петь, то перемену ветра,
западного на восточный, когда замерзшая ветка
перемещается влево, поскрипывая от неохоты,
и твой кашель летит над равниной к лесам Дакоты.
В полдень можно вскинуть ружью и выстрелить в то, что в поле
кажется зайцем, предоставляя пуле
увеличить разрыв между сбившемся напрочь с темпа
пишущим эти строки пером и тем, что
оставляет следы. иногда голова с рукою
сливаются, не становясь строкою,
но под собственный голос, перекатывающийся картаво,
подставляя ухо, как часть кентавра....и при слове "грядущее" из русского языка
выбегают мыши и всей оравой
отгрызают от лакомого куска
памяти, что твой сыр дырявой.
После стольких зим уже безразлично, что
или кто стоит в углу у окна за шторой,
и в мозгу раздается не неземное "до",
но ее шуршание. Жизнь, которой,
как дареной вещи, не смотрят в пасть,
обнажает зубы при каждой встрече.
От всего человека вам остается часть
речи. Часть речи вообще. Часть речи.Я не то, что схожу с ума, но устал за лето.
За рубашкой в комод полезешь, и день потерян.
Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла все это -
города, человеков, но для начала зелень.
Стану спать не раздевшись или читать с любого
места чужую книгу, покамест остатки года,
как собака, сбежавшая от слепого,
переходят в положенном месте асфальт. Свобода
это когда забываешь отечество у тирана,
а слюна во рту слаще халвы Шираза,
и хотя твой мозг перекручен, как рог барана,
ничего не каплет из голубого глаза.(4 июля 1977)
Падучая звезда, тем паче - астероид
на резкость без труда твой праздный взгляд настроит.
Взгляни, взгляни туда, куда смотреть не стоит.*
Там хмурые леса стоят в своей рванине
Уйдя из точки "А", там поезд на равнине
стремится в точку "Б". Которой нет впомине.Начала и концы там жизнь от взора прячет.
Покойник там не зрим, как тот, кто только зачат.
Иначе среди птиц. Но птицы мало значат.Там в сумерках рояль бренчит в висках бемолью.
Пиджак, вися в шкафу, там поедаем молью.
Оцепеневший дуб кивает лукоморью.*
Там лужа во дворе, как площадь двух америк.
Там одиночка-мать вывозит дочку в скверик.
Неугомонный терек там ищет третий берег.Там дедушку в упор рассматривает внучек.
И к звездам до сих пор там запускают жучек
плюс офицеров, чьих не осознать получек.Там зелень щавеля смущает зелень лука.
Жужжание пчелы там главный принцип звука.
Там копия, щадя оригинал, безрука.*
Зимой в пустых садах трубят гипербореи,
и ребер больше там у пыльной батареи
в подьездах, чем у дам. И вообще быстреенащупывает их рукой замерзший странник.
Там, наливая чай, ломают зуб о пряник.
Там мучает охранник во сне штыка трехгранник.От дождевой струи там плохо спичке серной.
Там говорят "свои" в дверях с усмешкой скверной.
У рыбьей чешуи в воде там цвет консервный.*
Там при словах "я за" течет со щек известка.
Там в церкви образа коптит свеча из воска.
Порой дает раза соседним странам войско.Там пышная сирень бушует в палисаде.
Пивная цельный день лежит в густой осаде.
Там тот, кто впереди, похож на тех, кто сзади.Там в воздухе висят обрывки старых арий.
Пшеница перешла, покинув герб, в гербарий.
В лесах полно куниц и прочих ценных тварей.*
Там лежучи плашмя на рядовой холстине
отбрасываешь тень, как пальма в Палестине.
Особенно - во сне. И, на манер пустыни,там сахарный песок пересекаем мухой.
там города стоят, как двинутые рюхой,
и карта мира там замещена пеструхой,мычащей на бугре. Там схож закат с порезом.
там вдалеке завод дымит, гремя железом,
ненужным никому: ни пьяным, ни тверезым.*
Там слышен крик совы, ей отвечает филин.
Овацию листвы унять там дождь бессилен.
Простую мысль, увы, пугает вид извилин.Там украшают флаг, обнявшись, серп и молот.
Но в стенку гвоздь не вбит и огород не полот.
Там, грубо говоря, великий план запорот.Других примет там нет - загадок, тайн, диковин.
Пейзаж лишен примет и гороизонт неровен.
Там в моде серый цвет - цвет времени и бревен.*
Я вырос в тех краях. Я говорил "закурим"
их лучшему певцу. Был содержимым тюрем.
Привык к свинцу небес и к айвазовским бурям.Там, думал, и умру - от скуки, от испуга.
Когда не от руки, так на руках у друга.
Видать, не рассчитал. Как квадратуру круга.Видать, не рассчитал. Зане в театрах задник
важнее, чем актер. Простор важней, чем всадник.
Передних ног простор не отличит от задних.*
Теперь меня там нет. Означенной пропаже
дивятся, может быть, лишь вазы в Эрмитаже.
Отсутствие мое большой дыры в пейзажене сделало; пустяк: дыра, - но небольшая.
Ее затянут мох или пучки лишая,
гармонии тонов и проч. не нарушая.Теперь меня там нет. Об этом думать странно.
Но было бы чудней изображать барана,
Дрожать, но раздражать на склоне дней тирана,*
паясничать. Ну что ж! на все свои законы:
я не любил жлобства, не целовал иконы,
и на одном мосту чугунный лик горгоныказался в тех краях мне самым честным ликом.
Зато столкнувшись с ним теперь, в его великом
варьянте, я своим не подавился крикоми не окаменел. Я слышу музы лепет.
Я чувствую нутром, как парка нитку треплет:
мой углекислый вдох пока что в вышних терпят.*
И без костей язык, до внятных звуков лаком,
судьбу благодарит кириллицыным знаком.
На то она - судьба, чтоб понимать на всякомнаречьи. Предо мной - пространство в чистом виде.
В нем места нет столпу, фонтану, пирамиде.
В нем, судя по всему, я не нуждаюсь в гиде.Скрипи, мое перо, мой коготок, мой посох.
Не погоняй сих строк: забуксовав в отбросах,
Эпоха на колесах нас не догонит, босых.*
Мне нечего сказать ни греку, ни варягу.
Зане не знаю я, в какую землю лягу.
Скрипи, скрипи перо! переводи бумагу.Марку Стрэнду
I
Веко подергивается. Изо рта
вырывается тишина. Европейские города
настигают друг друга на станциях. Запах мыла
выдает обитателю джунглей приближающегося врага.
Там, где ступила твоя нога,
возникают белые пятна на карте мира.В горле першит. Путешественник просит пить.
Дети,которых надо бить,
оглашают воздух пронзительным криком.Веко
подергивается. Что до колонн,из-за
них всегда появляется кто-нибудь. Даже прикрыв глаза,
даже во сне вы видите человека.И накапливается как плевок в груди:
"Дай мне чернил и бумаги, а сам уйди
прочь!" И век подергивается. Невнятные причитанья
за стеной (будто молятся) увеличивают тоску.
Чудовищность творящегося в мозгу
придает незнакомой комнате знакомые очертанья.II
Иногда в пустыне ты слышишь голос. Ты
вытаскиваешь фотоаппарат запечатлеть черты.
Но - темнеет. Присядь,перекинься шуткой
с говорящей по южному, нараспев,
обезьянкой, что спрыгнула с пальмы, и, не успев
стать человеком, сделалась проституткой.Лучше плыть пароходом, качающимся на волне,
учавствуя в географии, в голубизне, а не
только в истории - этой коросте суши.
Лучше Гренландию пересекать, скрипя
лыжами, оставляя после себя
айсберги и тюленьи туши.Алфавит не даст позабыть тебе
цель твоего путешествия - точку "Б".
Там вороне не сделаться вороном, как ни каркай;
слышен лай дворняг, рожь заглушил сорняк,
там, как над шкуркой зверька скорняк,
офицеры Генштаба орудуют над порыжевшей картой.III
Тридцать семь лет я смотрю в огонь.
Веко подергивается. Ладонь
покрывается потом. Полицейский, взяв документы,
выходит в другую комнату. Воздвигнутый впопыхах,
обелиск кончается нехотя в облаках,
как удар по Эвклиду, как след кометы.Ночь;дожив до седин, ужинаешь один,
сам себе быдло, сам себе господин.
Вобла лежит поперек крупно набранного сообщенья
об извержении вулкана черт знает где,
иными словами в чужой среде,
упираясь хвостом в "Последние Запрещенья".Я понимаю только жужжание мух
на восточных базарах! На тротуаре в двух
шагах от гостиницы,рыбой попавшей в сети,
путешественник ловит воздух раскрытым ртом;
сильная боль, на этом убив, на том
продолжается свете.IV
"Где это?" - спрашивает, приглаживая вихор,
племянник. И, пальцем блуждая по складкам гор,
"Здесь" - говорит племянница. Поскрипывают качели
в старом саду. На столе букет
фиалок. Солнце слепит паркет.
Из гостиной доносятся пассажи виолончели.Ночью над плоскогорьем висит луна.
От валуна отделяется тень слона.
В серебре ручья нет никакой корысти.
В одинокой комнате простыню
комкает белое (смуглое) просто ню -
живопись неизвестной кисти.Весной в грязи копошится труженик-муравей,
появляется грач, твари иных кровей;
листва прикрывает ствол в месте его изгиба.
Осенью ястреб дает круги
над селеньем, считая цыплят. И на плечах слуги
болтается белый пиджак сагиба...V
Было ли сказано слово? И если да, -
на каком языке? Был ли мальчик? И сколько льда
нужно бросить в стакан, чтоб остановить Титаник
мысли? Помнит ли целое рой частиц?
Что способен подумать при виде птиц
в аквариуме ботаник?Теперь представим себе абсолютную пустоту.
Место без времени. Собственно воздух. В ту,
и в другую, и в третью сторону. Просто Мекка
воздуха. Кислород, водород. И в нем
мелко подергивается день за днем
одинокое веко.Это - записки натуралиста. За-
писки натуралиста. Капающая слеза
падает в вакууме без всякого ускоренья.
Вечная неврастения,слыша жжу
це-це будущего,я дрожу
вцепившись ногтями в свои коренья.1977
I
"Скоро тринадцать лет, как соловей из клетки
вырвался и улетел. И на ночь глядя таблетки
богдыхан запивает кровью проштрафившегося портного,
откидывается на подушки и, включив заводного,
погружается в сон, убаюканный ровной песней.
Вот такие теперь мы празднуем в Поднебесной
невеселые, нечетные годовщины.
Специальное зеркало, разглаживающее морщины,
каждый год дорожает. Наш маленький сад в упадке.
Небо тоже исколото шпилями, как лопатки
и затылок больного (которого только спину
мы и видим). И я иногда объясняю сыну
богдыхана природу звезд, а он отпускает шутки.
Это письмо от твоей возлюбленной, Дикой Утки
писано тушью на рисовой тонкой бумаге, что дала мне императрица.
Почему-то вокруг все больше бумаги, все меньше риса."II
"Дорога в тысячу ли начинается с одного
шага, - гласит пословица. Жалко, что от него
не зависит дорога обратно, превосходящая многократно
тысячу ли. Особенно отсчитывая от нуля.
Одна ли тысяча ли, две ли тысячи ли -
тысяча означает, что ты сейчас вдали
от родимого крова, и зараза бессмысленности со слова
перекидывается на цифры;особенно на нули.
Ветер несет на Запад, как желтые семена
из лопнувшего стручка, - туда, где стоит Стена.
На фоне ее человек уродлив и страшен, как иероглиф,
как любые другие неразборчивые письмена.
Движенье в одну сторону превращает меня
в нечто вытянутое, как голова коня.
Силы, жившие в теле, ушли на трение тени
о сухие колосья дикого ячменя."1977
I
Третью неделю туман не слезает с белой
колокольни коричневого, захолустного городка,
затерявшегося в глухонемом углу
Северной Адриатики. Электричество
продолжает в полдень гореть в таверне.
Плитняк мостовой отливает желтой
жаренной рыбой. Оцепеневшие автомобили
пропадают из виду, не заводя мотора.
И вывеску не дочитать до конца. Уже
не терракота и охра впитывают в себя
сырость, но сырость впитывает охру и терракоту.Тень, насыщающаяся от света,
радуется при виде снимаемого с гвоздя
пальто совершенно по-христиански. Ставни
широко растопырены, точно крылья
погрузившихся с головой в чужие
неурядицы ангелов. Там и сям
слезающая струпьями штукатурка
обнажает красную, воспаленную кладку,
и третью неделю сохнущие исподники
настолько привыкли к дневному свету
и к своей веревке, что человек
если выходит на улицу, то выходит
в пиджаке на голое тело, в туфлях на босу ногу.В два часа пополудни силуэт почтальона
приобретает в подъезде резкие очертанья,
чтоб, мгновение спустя, снова сделаться силуэтом.
Удары колокола в тумане
повторяют эту же процедуру.
В итоге невольно оглядываешься через плечо
самому себе в след, как иной прохожий,
стремясь рассмотреть получше щиколотки прошелестевшей
мимо красавицы, но - ничего не видишь,
кроме хлопьев тумана. Безветрие, тишипа.
Направленье потеряно. За поворотом
фонари обрываются, как белое многоточье,
за которым следует только запах
водорослей и очертанья пирса.
Безветрие и тишина как ржанье
никогда не сбивающейся с пути
чугунной кобылы Виктора-Эммануила.II
Зимой обычно смеркается слишком рано;
где-то вовне, снаружи, над головою.
Туго спеленутые клочковатой
марлей стрелки на городских часах
отстают от меркнувшего вдалеке
рассеянного дневного света.
За сигаретами вышедший постоялец
возвращается через десять минут к себе
по пробуравленному в тумане
его же туловищем тоннелю.
Ровный гул невидимого аэроплана
напоминает жужжание пылесоса
в дальнем конце гостиничного коридора
и поглощает, стихая, свет.
"Неббия", - произносит, зевая, диктор,
и глаза на секунду слипаются, наподобье
раковины, когда проплывает рыба
(зрачок погружается ненадолго
в свои перламутровые потемки).
И подворотня с лампочкой выглядит, как ребенок,
поглощенный чтением под одеялом;
одеяло все в складках, как тога евангелиста
в нише. Настоящее, наше время
со стуком отскакивает от бурого кирпича
базилики, точно белый
кожаный мяч, вколачиваемый в нее
школьниками после школы.
Щербатые, но не мыслящие себя
в профиль, обшарпанные фасады.
Только голые икры кривых балясин
одушевляют наглухо запертые балконы,
где вот уже двести лет никто
не появляется: ни наследница, ни кормилица.
Облюбованные брачующимися и просто
скучающими чудищами карнизы.
Колоннада, оплывшая как стеарин.
И слепое, агатовое великолепье
непроницаемого стекла,
за которым скрывается кушетка и пианино:
старые, но именно светом дня
оберегаемые успешно тайны.В холодное время года нормальный звук
предпочитает тепло гортани капризам эхо.
Рыба безмолствует; в недрах материка
распевает горлинка. Но ни той, ни другой не слышно.
Повисший над пресным каналом мост
удерживает расплывчатый противоположный берег
от попытки совсем отделиться и выйти в море.
Так, дохнув на стекло, выводят инициалы
тех, с чьим отсутствием не смириться;
и подтек превращает заветный вензель
в хвост морского конька. Вбирай же красной
губкой легких плотный молочный пар,
выдыхаемый всплывшею Амфитритой
и ее нереидами! Протяни
руку - и кончики пальцев коснутся торса,
покрытого пузырьками
и пахнущего, как в детстве, йодом.III
Выстиранная, выглаженная простыня
залива шуршит оборками, и бесцветный
воздух на миг сгущается в голубя или чайку,
но тотчас растворяется. Вытащенные из воды
лодки, баркасы, гондолы, плоскодонки,
как непарная обувь, разбросаны на песке,
поскрипывающим под подошвой. Помни:
любое движенье, по сути, есть
перенесение тяжести тела в другое место.
Помни, что прошлому не уложиться
без остатка в памяти, что ему
необходимо будущее. Твердо помни:
только вода, и она одна,
всегда и везде остается верной
себе - нечувствительной к метаморфозам, плоской
находящейся там, где сухой земли
больше нет. и патетика жизни с ее началом,
серединой, редеющим календарем, концом
и т.д. стушевывается ввиду
вечной, мелкой, бесцветной ряби.Жесткая, мертвая проволка виноградной
лозы мелко вздрагивает от собственного напряженья.
Деревья в черном саду ничем
не отличаются от ограды, выглядящей
как человек, которому больше не в чем
и - главное - некому признаваться.
Смеркается; безветрие, тишина.
Хруст ракушечника, шорох раздавленного гнилого
тростника. Пинаемая носком
жестянка взлетает в воздух и пропадает
из виду. Даже спустя минуту
не расслышать звука ее паденья
в мокрый песок. Ни, тем более, всплеска.1977
Летом столицы пустеют. Субботы и отпуска
уводят людей из города. По вечерам - тоска.
В любую из них спокойно можно ввести войска.
И только набравши номер одной из твоих подруг,
не уехавшей до сих пор на юг,
насторожишся,услышав хохот и волапюк,И молча положишь трубку; город захвачен; строй
переменился: все чаще на светофорах - "Стой".
Приобретая газету, ее начинаешь с той
колонки, где "что в театрах" рассыпало свой петит.
Ибсен тяжеловесен, А. П. Чехов претит.
Лучше пойти пройтись, нагулять аппетит.Солнце всегда садится за телебашней. там
и находится запад, где выручают дам,
стреляют из револьвера и говорят "не дам",
если попросишь денег. Там поет "ла-ди-да",
трепеща в черных пальцах, серебрянная дуда.
бар есть окно, прорубленное туда.Вереница бутылок выглядит как Нью-Йорк.
Это одно способно привести вас в восторг.
Единственное, что выдает Восток,
это - клинопись мыслей: любая из них тупик,
да на банкнотах не то магомет, не то горный пик,
да шелестящее на ухо жаркое "ду-ю-спик".И когда ты потом петляешь, это - прием котла,
новые канны, где, обдавая запахами нутра,
в ванной комнате, в четыре утра,
из овального зеркала над раковиной, в которой бурлит моча
на себя таращишся, сжав рукоять меча,
завоеватель, старающийся выговорить "ча-ча-ча".1977
Диане и Алену Майерс
1. Брайтон-рок
Ты возвращаешься, сизый цвет ранних сумерек. Меловые
Скалы сассекса в море отбрасывают запах сухой травы и
длинную тень, как ненужную черную вещь. Рябое
море на сушу выбрасывает шум прибоя
и остатки ультрамарина. Из сочетанья всплеска
лишней воды с лишней тьмой возникают, резко
выделяя на фоне неба шпили церквей, обрывы
скал, эти сизые, цвета пойманной рыбы,
летние сумерки; и я прихожу в себя. В зарослях беззаботно
вскрикивает коноплянка. Чистая линия горизонта
с облаком напоминает веревку с выстиранной рубашкой,
и танкер перебирает мачтами, как упавший
на спину муравей. В сознании всплывает чей-то
телефонный номер - порванная ячейка
опустевшего невода. Бриз овевает щеку.
Мертвая зыбь баюкает беспокойную щепку,
и отражение полощется рядом с оцепеневшей лодкой.
В середине длинной или в конце короткой
жизни спускаешься к волнам не выкупаться, но ради
темно-серой, безпюдной, бесяеловечной глади,
схпзей цветом с глазами, глядящими, не мигая,
на нее, как две капли воды. Как молчанье попугая.2. Северный Кенсингтон
Шорох "Ирланского Времепи", гопимого взтром по
железподорожпым путям к брошенному депо,
шелест мертвой полыни, опередившей осень,
серый язык воды подле кирпичпых десен.
Как я люблю эти звуки - звуки бзсюельной, но
длящейся жизни, к которым уже давно
ничего не прибавить, кроме шуршащих галькой
собственнух грузных шагов. И в небо запустишь гайкой.
Только мышь понимает прелести пустыря -
ржавого репьса выдернутого штыря,
проводов, не способных взять вэше сиплого до-диеза,
поражения времени перед лицом железа.
Ничего не исправить, не использовать впредь.
Можно только залить асфальтом или стереть
взрывом с лица земли, свыкшегося с гримасой
бетонного стадиона с орущей массой.
И появится мышь. Медленно, не спеша,
выйдет на середину поля, мелкая, как душа
по отношению к плоти, и, приподняв свою
обезумевшую мордочку, скажет "не узнаю".3. Сохо
В венецианском стекле, окруженном тяжелой рамой,
отражается матовый профиль красавицы с рваной раной
говорящего рта. Партнер созерцает стены,
где узоры обоев спустя восемь лет превратились в "сцены
скачек в эпсоме". - Флаги. Наездник в алом
картузе рвется к финишу на полуторагодовалом
жеребце. Все слилось в сплошное пятно. В ушах завывает ветер.
На трибунах творится невообразимое... - "не ответил
на второе письмо, и тогда я решила..." голос
представляет собой борьбу глагола с
ненаставшим временем. Молодая, худая
рука перебирает локоны, струящиеся не впадая
никуда, точно воды многих
рек. Оседлав деревянных четвероногих,
вокруг стола с недопитым павшие смертью храбрых
на чужих простынях джигитуют при канделябрах
к подворотне в -ском переулке, засыпанном снегом. - Флаги
жухнут. Ветер стихает; и капли влаги
различимы становятся у соперника на подбородке,
и трибуны теряются из виду... - в подворотне
светит желтая лампочка, чуть золотя сугробы,
словно рыхлую корочку венской сдобы. Однако, кто бы
ни пришел сюда первым, колокол в переулке
не звонит. И подковы сивки или каурки
в настоящем прошедшем, даже достигнув цели,
не оставляют следов на снегу. Как лошади карусели.4. Ист Финчли
Вечер. Громоздкое тело движется по узкой
стриженной под полубокс аллее с рядами фуксий
и садовой герани, точно дредноут в мелком
деревенском канале. Перепачканный мелом
правый рукав пиджака, так же как самый голос,
выдает род занятий - "розу и гладиолус
поливать можно реже, чем далии и гиацинты,
раз или два в неделю". И он мне приводит цифры
из "советов любителю-садоводу"
и строку из вергилия. земля поглощает воду
с неожиданной скоростью, и он прячет глаза. В гостинной,
скупо обставленной, нарочито пустынной,
жена - он женат вторым браком - как подобает женам,
раскладывает, напевая, любимый Джоном
Голсуорси пасьянс "Паук". На стене акварель: в воде
отражается вид моста неизвестно где.Всякий, живущий на острове догадывается, что рано
или поздно все это кончается, что вода из-под крана,
прекращая быть пресной, делается соленой,
и нога, хрустевшая гравием и соломой,
ощущает внезапный холод в носке ботинка.
В музыке есть то место, когда пластинка
начинает вращаться против движенья стрелки.
И на камине маячит чучело перепелки,
понадеявшейся на бесконечность леса,
ваза с веточкой бересклета
и открытки с видом базара где-то в Алжире - груды
пестрой материи, бронзовые сосуды,
сзади то ли верблюды, то ли просто холмы;
люди в тюрбанах. не такие как мы.Аллегория памяти, воплощенная в твердом
карандаше, зависшем в воздухе над кроссвордом.
Дом на пустынной улице, стелящейся покато.
В чьих одинаковых стеклах солнце в часы заката
отражается, точно в окне экспресса,
уходящего в вечность, где не нужны колеса.
Милая спальня (между подушек - кукла),
где ей снятся ее "кошмары". Кухня;
издающая запах чая гудящая хризантема
газовой плитки. И очертания тела
оседают на кресло, как гуща, отделяющая от жижи.Посредине абсурда, ужаса, скуки жизни
стоят за стеклом цветы, как вывернутые на изнанку
мелкие вещи - с розой, подобно знаку
бесконечности из-за пучка восьмерок,
с колесом георгина, буксующим меж распорок,
как расхристанный локомотив боччони,
с танцовщицами-фуксиями и с еще не
распустившейся далией. Плавающий в покое
мир, где не спрашивают "что такое?
что ты сказал? повтори" - потому что эхо
взвращает того воробья неизменно в ухо
от китайской стены; потому что ты
произнес только одно: "цветы".5. Три рыцаря
В старой ротонде аббатства, в алтаре, на полу
спят вечным сном три рыцаря, поблескивая в полу-
мраке ротонды, как каменные осетры,
чешуею кольчуги и жабрами лат. Все три
горбоносы и узколицы, и с головы до пят
рыцари: в панцире, шлеме, с длинным мечем. и спят
дольше, чем бодрствовали. Сумрак ротонды. Руки
скрещены на груди, точно две севрюги.
За щелчком аппарата следует вспышка - род
выстрела (все, что нас отбрасывает вперед,
на стену будущего, есть как бы выстрел). Три
рыцаря, не шелохнувшись, повторяют внутри
камеры то, что уже случилось - либо при Пуатье,
либо в Святой Земле: путешественник в канотье
для почивших заради Отца и Сына
и Святого Духа ужаснее сарацина.Аббатство привольно раскинулось на берегу реки.
Купы зеленых деревьев. Белые мотыльки
порхают у баптистерия над клумбой и т.д.
Прохладный английский полдень. В Англии, как нигде
природа скорее успокаивает, чем увлекает глаз;
и под стеной ротонды, как перед раз
навсегда опустившимся занавесом в театре,
аплодисменты боярышника ты не разделишь на три.6. Йорк
W.H.A
Бабочки Северной Англии пляшут над лебедою
под кирпичной стеною мертвой фабрики. За средою
наступает четверг, и т.д. небо пышет жаром,
и поля выгорают. Города отдают лежалым
полосатым сукном, георгины страдают жаждой.
И твой голос - "я знал трех великих поэтов. Каждый
был большой сукин сын" - раздается в моих ушах
с неожиданной четкостью. Я замедляю шагИ готов оглянуться. Скоро четыре года,
как ты умер в австрийской гостинице. Под стрелкой перехода
ни души: черепичные кровли, асфальт, известка,
тополя. Честер тоже умер - тебе известно
это лучше, чем мне. Как костяшки на пыльных счетах,
воробьи восседают на проводах. Ничто так
не превращает знакомый подьезд в толчею колонн,
как любовь к человеку; особенно если онмертв. Отсутствие ветра заставляет тугие листья
напрягать свои мышцы и нехотя шевелиться.
Танец белых капустниц похож на корабль в бурю.
Человек приносит с собою тупик в любую
точку света; и согнутое колено
размножает тупым углом перспективу плена
как журавлиный клин, когда он берет
курс на юг. Как все движущееся вперед.пустота, поглощая солнечный свет на общих
основаньях с боярышником, увеличивается наощупь
в направленьи вытянутой руки, и
мир сливается в длинную улицу, на которой живут другие.
В этом смысле он - Англия. Англия в этом смысле
до сих пор империя и в состояньи - если
верить музыке, булькающей водой -
править морями. Впрочим, - любой средой.Я в последнее время немного сбиваюсь: скалюсь
отраженью в стекле витрины; покамест палец
набирает свой номер, рука опускает трубку.
Стоит закрыть глаза, как вижу пустую шлюпку,
замерзшую на воде посредине бухты.
Выходя наружу из телефонной будки,
слышу голос скворца, и в крике его - испуг.
Но раньше, чем он взлетает, звукрастворяется в воздухе. Чьей беспредметной сини
и сродни эта жизнь, где вещи видней в пустыне,
ибо тебя в ней нет. И вакуум постепенно
заполняет местный ланшафт. Как сухая пена,
овцы покоятся на темнозеленых волнах
йоркширского вереска. Кордебалет проворных
бабочек, повинуясь невидимому смычку,
мельтешит над заросшей канавой, не давая зрачкуни на чем задержаться. И вертикальный стебль
иван-чая длинней уходящей на север
древней римской дороги, всеми забытой в Риме.
Вычитая из меньшего большее, из человека - время,
получаешь в остатке слова, выделяющиеся на белом
фоне отчетливей, чем удается телом
это сделать при жизни, даже сказав "лови!"Что источник любви превращает в обьект любви.
7
Английские каменные деревни.
Бутылка собора в окне харчевни.
Коровы, разбредшиеся по полям.
Памятники королям.Человек в костюме побитом молью
провожает поезд, идущий, как все тут, к морю,
улыбается дочке, уезжающей на восток.
Раздается свисток.И бескрайнее небо над черепицей
тем синее, чем громче птицей
оглашаемо. И чем громче поет она,
тем все меньше видна.(1977)
Все собаки сьедены. В дневнике
не осталось чистой страницы. И бисер слов
покрывает фото супруги, к ее щеке
мушку даты сомнительной приколов.
Дальше - снимок сестры. Он не щадит сестру:
речь идет о достигнутой широте!
И гангрена, чернея, взбирается по бедру,
как чулок девицы из варьете.22 июля 1978
М.Б.
Ты, гитарообразная вещь со спутанной паутиной
струн, продолжающая коричневеть в гостиной,
белеть а-ля Казимир на выстиранном просторе,
спой мне песню о том, как шуршит портьера,
как включается, чтоб оглушить полтела,
тень, как лиловая муха сползает с карты
и закат в саду за окном точно дым эскадры,
от которой осталась одна матроска,
позабытая в детской. И как расческа
в кулаке дрессировщика-турка, как рыбку - леской,
возвышает болонку над Ковалевской
до счастливого случая тявкнуть сорок
раз в день рожденья, - и мокрый порох
гасит звезды салюта, громко шипя, в стакане,
и стоят графины кремлем на ткани.22 июля 1978
Восславим приход весны! Ополоснем лицо,
чирьи прижжем проверенным креозотом
и выйдем в одной рубахе босиком на крыльцо,
и в глаза ударит свежестью! горизонтом!
будущим! Будущее всегда
наполняет землю зерном, голоса - радушьем,
наполняет часы ихним туда-сюда;
вздрогнув, себя застаешь грядущим.
Весной, когда крик пернатых будит леса, сады,
вся природа, от ящериц до оленей,
устремлена туда же, куда ведут следы
государственных преступлений.(1978)
Время подсчета цыплят ястребом; скирд в тумане,
мелочи, обжигающей пальцы, звеня в кармане;
северных рек, чья волна, замерзая в устье,
вспоминает истоки, южное захолустье
и на миг согревается. Время коротких суток,
снимаемого плаща, разбухших ботинок, судорог
в желудке от желтой вареной брюквы;
сильного ветра, треплющего хоругви
местолюбивого воинства. Пора, когда дело терпит,
дни на одно лицо, как Ивановы-братья,
и кору задирает жадный, бесстыдный трепет
пальцев. Чем больше пальцев, тем меньше платья.(1978)
I
Полдень в комнате. Тот покой,
когда наяву, как во
сне, пошевелив рукой,
не изменить ничего.Свет проникает в окно, слепя.
Солнце, войдя в зенит,
луч клдет на паркет, себя
этим деревянит.Пыль, осевшая в порах скул.
Калорифер картав.
Тело, застыв, продлевает стул.
Выглядит, как кентавр.II
Вспять оглянувшийся: тень, затмив
профиль, чье ремесло -
затвердевать, уточняет миф,
повторяя числочленов. Их переход от слов
к цифрам не удивит.
Глаз переводит, моргнув, число в
несовершенный вид.Воздух, в котором ни встать, ни сесть,
ни, тем более лечь,
воспринимает "четыре","шесть",
"восемь" лучше, чем речь.III
Я родился в большой стране
в устье реки. Зимой
она всегда замерзала. Мне
не вернуться домой.Мысль о пространстве рождает "ах",
оперу, взгляд в лорнет.
В цифрах есть нечто, чего в словах,
даже крикнув их, нет.Птица щебечет, из-за рубежа
вернувшись в свое гнездо.
Муха бьется в стекле, жужжа
как "восемьдесят" или - "сто".IV
Там был город, где, благодаря
точности перспектив,
было вдогонку бросаться зря,
что-либо упустив.Мост над замерзшей рекой в уме
сталью своих хрящей
мысль рождал о другой зиме -
то есть, зиме вещей,Где не встретишь следов; рельеф
выглядит, как стекло,
только маятник, замерев,
источает тепло.V
Воздух бесцветный и проч., зато
необходимый для
существования, есть ничто,
эквивалент нуля.Странно отсчитывать от него
мебель, рога лося,
себя; задумываться, "ого"
в итоге произнося.Взятая в цифрах, вещь может дать
тамерланову тьму,
род астрономии. Что подстать
воздуху самому.VI
Там были также ряды колонн,
забредшие в те снега,
как захваченные в полон,
раздетые донага.В полдень, гордясь остротой угла,
как возвращенный луч,
обезболивала игла
содержимое туч.Слово, сказанное наугад,
вслух, даже слово лжи,
воспламеняло мозг, как закат
верхние этажи.VII
Воздух, в сущности, есть плато,
пат, вечный шах, тщета,
ничья, классическое ничто,
гегелевская мечта.Что исторгает из глаз ручьи.
Полдень. Со стороны
мозг неподвижней пластинки, чьи
бороздки засорены.Полдень; жевательный аппарат
пробует завести,
кашлянув, плоский пи-эр-квадрат -
музыку на кости.VIII
Там были комнаты. Их размер
порождал ералаш,
отчего потолок, в чей мел
взор устремлялся ваш,только выигрывал. Зеркала
копили там дотемна
пыль, оседавшую, как зола
Геркуланума, наобитателей. Стопки книг,
стулья, в окне - слюда
инея. То, что случалось в них,
случалось там навсегда.IX
Звук уступает свету не в
скорости, но в вещах,
внятных даже окаменев,
обветшав, обнищав.Оба преломлены, искажены,
сокращены: сперва -
до потемок, до тишины;
превращены в слова.Можно вспомнить закат в окне,
либо - мольбу, отказ.
Оба счастливы только вне
тела. Вдали от нас.X
Я был скорее звуком, чем -
стыдно сказать - лучом
в царстве, где торжествует чернь,
прикидываясь грачомв воздухе. Я ночевал в ушных
раковинах: ласкал
впадины, как иной жених -
выпуклости; пускалпетуха. Но, устремляясь ввысь,
звук скидывает баласт:
сколько в зеркало не смотрись,
оно эха не даст.XI
Там принуждали носить пальто
ибо холод лепил
тело, забытое теми, кто
раньше его любил,мраморным. Т.е. без легких, без
имени, черт лица,
в нише, на фоне пустых небес,
на карнизе дворца.Там начинало к шести темнеть.
В восемь хотелось лечь.
Но было естественней каменеть
в профиль, утратив речь.XII
Двуногое - впрочем, любая тварь
(ящерица, нетопырь) -
прячет в своих чертах букварь,
клеточную цифирь.Тело, привыкшее к своему
присутствию, под ремнем
и тканью, навязывает уму
будущее. Мысль о нем.Что - лишнее! Тело в анфас уже
само есть величина!
сумма! Особенно - в неглиже,
и лампа не включена.XIII
В будущем цифры рассеют мрак.
Цифры не умира.
Только меняют порядок, как
телефонные номера.Сонм их, вечным пером привит
к речи, расширит рот,
удлинит собой алфавит;
либо наоборот.Что будет выглядеть, как мечтой
взысканная земля
с синей, режущей глаз чертой -
горизонтом нуля.XIV
Или - как город, чья красота,
неповторимость чья
была отраженьем своим сыта,
как нарцисс у ручья.Так размножаются камень, вещь,
воздух. Так зрелый муж,
осознавший свой жуткий вес,
не избегает луж.Так, по выпуклому лицу
памяти всеми пятью скребя,
ваше сегодня, подстать слепцу,
опознает себя.XV
В будущем, суть в амальгаме, суть
в отраженном вчера
в столбике будет падать ртуть,
летом - жужжать пчела.Там будут площади с эхом, в сто
превосходящим раз
звук. Что только повторит то,
что обнаружит глаз.Мы не умрем, когда час придет!
Но посредством ногтя
с амальгамы нас соскребет
какое-нибудь дитя!XVI
Знай, что белое мясо, плоть,
искренний звук, разгон
мысли ничто не повторит - хоть
наплоди легион.Но, как звезда через тыщу лет,
ненужная никому,
что так не источает свет,
как поглощает тьму,следуя дальше, чем тело, взгляд
глаз, уходя вперед,
станет назад посылать подряд
все, что в себя вберет.1978
Пора забыть верблюжий этот гам
И белый дом на улице Жуковской...Анна Ахматова
Помнишь свалку вещей на железном стуле,
то, как ты подпевала бездумному "во саду ли,
в огороде", бренчавшему вечером за стеною;
окно, завешанное выстиранной простынею?
Непроходимость двора из-за сугробов, щели,
куда задувало не хуже, чем в той пещере,
преграждали доступ царям, пастухам, животным,
оставляя нас греться теплом животным
да армейской шинелью. Что напевала вьюга
переходящим заполночь в сны друг друга,
ни пружиной не скрипнув, ни половицей,
неповторимо ни голосом наяву, ни птицей,
прилетевшей из ялты. Настоящее пламя
пожирало внутренности игрушечного аэроплана
и центральный орган державы плоской,
где китайская грамота смешана с речью польской.
Не отдернуть руки, не избежать ожога,
измеряя градус угла чужого
в геометрии бедных, чей треугольник кратный
увенчан пыльной слезой стоватной.
Знаешь, когда зима тревожит бор красноносом,
когда торжество крестьянина под вопросом,
сказуемое, ведомое подлежащим,
уходит в прошедшее время, жертвуя настоящим,
от грамматики новой на сердце пряча
окончание шепота, крики, плача.1978
М.Б.
1
Наподобье стакана
оставившего печать
на скатерти океана,
которого не перекричать,
светило ушло в другое
полушарие, где
оставляют в покое
только рыбу в воде.2
Вечером, дорогая
здесь тепло. Тишина
молчанием попугая
буквально завершена.
Луна в кусты чистотела
льет свое молоко:
неприкосновенность тела,
зашедшая далеко.3
Дорогая, что толку
пререкаться, вникать
в случившееся. Иголку
больше не отыскать
в человеческом сене.
Впору вскочить, разя
тень; либо - вместе со всеми
передвигать ферзя.4
Все, что мы звали личным,
что копили, греша,
время, считая лишним,
как прибой с голыша
стачивает - то лаской,
то посредством резца -
чтобы кончить цикладской
вещью без черт лица.5
Ах, чем меньше поверхность,
тем надежда скромней
на безупречную верность
по отношению к ней.
Может, вообще пропажа
тела из виду есть
со тороны пейзажа
дальнозоркости месть.6
Только пространство корысть
в тычущем вдаль персте
может найти. И скорость
света есть в пустоте.
Так и портится зренье:
чем ты дальше проник;
больше, чем от старенья
или чтения книг.7
Так же действует плотность
тьмы. Ибо в смысле тьмы
у вертикали плоскость
сильно берет взаймы.
Человек - только автор
сжатого кулака,
как сказал авиатор,
уходя в облака.8
Чем безнадежней, тем как-то
ПРоще. Уже не ждешь
занавеса, антракта,
как пылкая молодежь.
Свет на сцене, в кулисах
меркнет. Выходишь прочь
в рукоплесканье листьев,
в американскую ночь.9
Жизнь есть товар на вынос:
торса, пениса, лба.
И географии примесь
к времени есть судьба.
Нехотя, из-под палки,
признаешь эту власть,
подчиняешся парке,
обожающей прясть.10
Жухлая незабудка
мозга кривит мой рот.
Как тридцать третья буква
я пячусь всю жизнь вперед.
Знаешь, все, кто далече,
по ком голосит тоска -
жертвы законов речи,
запятых, языка.11
Дорогая, несчастных
нет, нет мертвых, живых.
Все - только пир согласных
на их ножках кривых.
Видно, сильно превысил
свою роль свинопас,
чей нетронутый бисер
переживет всех нас.12
Право, чем гуще россыпь
черного на листе,
тем безразличней особь
к прошлому, к пустоте
в будущем. Их соседство,
мало порча добра,
лишь ускоряет бегство
по бумаге пера.13
Ты не услышишь ответа,
если спросишь "куда",
так как стороны света
сводятся к царству льда.
У языка есть полюс,
где белизна сквозит
сквозь эльзевир; где голос
флага не водрузит.14
Бедность сих строк - от жажды
что-то спрятать, сберечь;
обернуться. Но дважды
в ту же постель не лечь.
Даже если прислуга
не меняет белье,
здесь не сатурн, и с круга
не соскочить в нее.15
С той дурной карусели,
что воспел Гесиод,
сходят не там, где сели,
но где ночь застает.
Сколько глаза не колешь
тьмой - расчетом благим
повторимо всего лишь
слово: словом другим.16
Так барашка на вертел
нижут, разводят жар.
Я, как мог обессмертил,
то, что не удержал.
Ты, как могла, простила
все, что я натворил.
В общем, песня сатира
вторит шелесту крыл.17
Дорогая, мы квиты.
Больше: друг к другу мы
точно оспа привиты
среди общей чумы.
Лишь обьекту злоречья,
вместе с шансом в пятно
уменьшаться, предплечье
в утешенье дано.18
Ах, за щедрость пророчеств -
дней грядущих шантаж -
как за бич наших отчеств,
память, много не дашь.
Им присуща, как аист
свертку, приторность кривд.
Но мы живы, покамест
есть прощенье и шрифт.19
Эти вещи сольются
в свое время в глазу
у воззрившихся с блюдца
на пестроту внизу.
Полагаю, и вправду
хорошо, что мы врозь,
чтобы взгляд астронавту
напрягать не пришлось.20
Вынь, дружок, из кивота
лик пречистой жены.
вставь семейное фото -
вид планеты с луны.
Снять нас вместе мордатый
не сподобился друг,
проморгал соглядатай;
в общем, всем недосуг.21
Неуместней, чем ящер
в филармонии, вид
нас вдвоем в настоящем.
Тем верней удивит
обитателей завтра
разведенная здесь
сильных чувств динозавра
и кириллицы смесь.22
Эти срочки по сути
болтовня старика.
В нашем возрасте судьи
удлинняют срока.
Иванову. Петрову.
своей хрупкой кости.
Но свободному слову
не с кем счеты свести.23
Так мы лампочку тушим,
чтоб сшибить табурет.
Разговор о грядущем -
тоже старческий бред.
Лучше все, дорогая,
доводить до конца,
темноте помогая
мускулами лица.24
Вот конец перспективы
нашей. Жаль, не длинней,
дальше - дивные дива
времени, лишних дней,
скачек к финишу в шорах
городов и т.п.;
лишних слов, из которях
ни одно о тебе.25
Около океама,
летней ночью. Жара,
как чужая рука на
темени. Кожура
снятая с апельсина
жухнет. И свой обряд,
как жрецы элевсина,
мухи над ней творят.26
Облокотясь на локоть,
я слушаю шорох лип.
Это хуже, чем грохот
и знаменитый всхлип.
Это хуже, чем детям
сделанное "бо-бо".
Потому, что за этим
не следует ничего.(1978)
К.Х.
Когда снег заметает море и скрип сосны
оставляет в воздухе след глубже, чем санный полоз,
до какой синевы могут дойти глаза? до какой тишины
может упасть безучастный голос?
Пропадая без вести из виду, мир вовне
сводит счеты с лицом, как с заложником Мамелюка.
...так моллюск фосфоресцирует на океанском дне,
так молчанье в себя вбирает всю скорость звука,
так довольно спички, чтобы разжечь плиту,
так стенные часы, сердцебиению вторя,
остановившись по эту, продолжают идти по ту
сторону моря.(1978)
Источник: http://ithil.mcst.ru/~igor/brodsky.html#0011
| Ранее |
Cтраницы в Интернете о поэтах и их творчестве, созданные этим разработчиком:
| ООО "Интерсоциоинформ" |
|