ЛЕВ ЛОСЕВ
СОЛЖЕНИЦЫН И БРОДСКИЙ КАК СОСЕДИ
1 Однажды в семьдесят седьмом году, еще в Анн-Арборе, Иосиф сказал: “Погляди, я письмо от Солженицына получил”. Регенты Мичиганского университета, как водится загодя, старались залучить какую-нибудь выдающуюся знаменитость на выпускную церемонию будущего года. Знаменитому человеку в таких случаях присуждают звание доктора honoris causa и просят произнести речь. Кто-то в университетской администрации скумекал, что прежде , чем посылать официальное приглашение, неплохо было бы заручиться согласием русского писателя неофициально и что самый надежный способ будет сделать это через своего собственного русского “поэта-при-университете” (poet in residence), Иосифа Бродского (Jos e ph Brodsky). Что именно написал Бродский Солженицыну, я не знаю, но короткий ответ запомнил так: Солженицын вежливо благодарил за приглашение, извинялся за то, что не может его принять, так как загружен работой, а дальше писал приблизительно следующее — что ему давно хотелось сказать Бродскому, чей талант он ценит: а не вносит ли Бродский своей поэзией дополнительный хаос в мир, где его и без того много? Смысл упрека — поэзия и поэтика Бродского способствуют возрастанию хаоса — закрепился у меня в памяти еще и вот почему. Вскоре после чтения солженицынского письма я что-то разыскивал для своей диссертации и в томе “Литературного наследства” наткнулся на переписку Горького с Пастернаком. 30 ноября 1927 года Горький писал: “Воображать — значит внести в хаос форму, образ. Иногда я горестно чувствую, что хаос мира одолевает силу вашего творчества и отражается в нем именно только как хаос, дисгармонично”.
Я поначалу даже подумал: а не прочитал ли и Солженицын то же письмо и не процитировал ли подсознательно Горького? А потом передумал: нет нужды в таком натянутом объяснении, когда просто имеет место типологически сходная ситуация, постоянно возникающая в отношениях между литературными “отцами и детьми”. Старшие не понимают младших, воспринимают их поэтическую речь не как текст, а в значительной части как семиотический “шум”, философский “хаос”. Это однонаправленный процесс. Младшие-то старших понимают. Для младших проблема другая. Даже традиционалистам среди молодых художественный язык предыдущего поколения кажется не вполне адекватным новым задачам литературы, а уж для молодого авангарда язык отцов — совершенно скомпрометированный набор клише. Как историко-литературный процесс это описано в классических трудах Тынянова и других формалистов, а как психологическая проблема в “Неврозе влияния” Гаролда Блума.
Но оказалось, что память меня подвела. Недавно в домашнем архиве покойного поэта отыскалось письмецо Солженицына. Ни о каком умножении хаоса там речи не идет, лишь, осторожно и вскользь, о разрушении стиха. Вот это письмо.
14.5.77
Дорогой Иосиф!
(простите, никогда не знал Вашего отчества)
Ни в одном русском журнале не пропускаю Ваших стихов, не перестаю восхищаться Вашим блистательным мастерством. Иногда страшусь, что Вы как бы в чем-то разрушаете стих, — но и это Вы делаете с несравненным талантом.
Спасибо за передаваемое Вами приглашение Мичиганского университета и тем лицам, которые Вам это приглашение для меня передали.
Я с интересом прочел, что Вы пишете об этом университете. Не исключаю, что когда-нибудь позже, но не в этом году, принял бы это приглашение. Но в 1977 — уверенно могу ответить, что нет: так загружен работой.
Желаю Вам здоровья и бодрости, постарайтесь не терять их.
И — новых успехов.
А. Солженицын
Два места стоит прокомментировать.
Ни в одном русском журнале не пропускаю Ваших стихов; стихи Бродского начали появляться в эмигрантских журналах и альманахах с 1964 года, и за тринадцать лет из этих публикаций составляется очень представительная подборка, дающая хорошее представление о поэте, от первых опытов до зрелых вещей, но даже если Солженицын имел в виду лишь текущую русскую периодику, начиная со своей высылки на Запад в 1974 году, то за эти три года в парижских “Вестнике Р.С.Х.Д.” и “Континенте”, а также в американском двуязычном “Russian Literature Triquarterly” появились “Памяти Т. Б.”, “Конец прекрасной эпохи”, “Сретенье”, “Лагуна”, “На смерть Жукова”, циклы “Мексиканский дивертисмент” и “Часть речи”, поэмы “Посвящается Ялте” и “Колыбельная Трескового мыса” и другие вещи, позднее составившие сборники “Конец прекрасной эпохи” и “Часть речи” (оба 1977 г.).
Пожелание здоровья в конце и совет беречь его, видимо, не просто доброжелательный жест; вероятно, Солженицын знал, что за четыре месяца до того тридцатишестилетний Бродский перенес первый, но уже обширный инфаркт.
Выходит, с “умножением хаоса” меня Горький попутал, но — редчайший случай — ошибка памяти обернулась правильной угадкой. Прошло двадцать три года с того письма, Солженицын опубликовал эссе из своей “Литературной коллекции”, “Иосиф Бродский — избранные стихи” (“Новый мир”, 1999, № 12), и там он почти в самом начале пишет: “Беззащитен оказался Бродский против издерганности нашего века: повторил ее и приумножил, вместо того чтобы преодолеть, утишить. (А ведь до какой бы хаотичности ни усложнялся нынешний мир — человеческое созданье все равно имеет возможность сохраниться хоть на один порядок да выше)” (курсив мой. — Л. Л.).
Чуть ли не в каждом абзаце заметок Солженицына о стихах Бродского можно найти промах. “В каком порядке стихи расположены? Не строго хронологически...” — начинает Солженицын. Но стихи в этом московском сборнике “Часть речи” расположены как раз хронологически, разве что внутри пятилетий допускаются некоторые перестановки, вполне очевидно вызванные желанием автора тематически организовать циклы. Далее Солженицын неодобрительно пишет о том, что “после Первой мировой войны ирония как манера взгляда на мир” стала всеобщей модой и “не могла не заполонить Бродского”. “Вот берется Бродский за сюжет Марии Стюарт, столь романтически воспетый многими, и великими, поэтами. Но романтика для него дурной тон, а проявить лиричность — и вовсе недопустимо”. Как-то даже неудобно в ответ на это напоминать прописные истины, что как раз в романтической традиции лиризм и ирония неразрывны, в “Евгении Онегине”, например. В следующем абзаце в качестве примера отсутствия живого чувства у Бродского комментируется длинное “Пенье без музыки” — “апофеоз хладности и рассудливости, не случайно еще и построенный на геометризме (впрочем, шатком: перпендикуляр-то восставил, но спутал катет с гипотенузой, а сам образ звезды, на которую смотрят оба они, — стар, как мир)”. Верно, стар. Этот образ у Ахматовой варьируется в цикле “Шиповник цветет. Сожженная тетрадь”, посвященном, так же, как и стихотворение Бродского, адресату в Англии. А за триста лет до того у Джона Донна. Есть такие вечные образы и мотивы в поэзии... И опять мы чувствуем неловкость, сбиваясь на элементарные объяснения. Но что уж совсем ошарашивает — это что Бродский “спутал катет с гипотенузой”. Я и сам не отношу “Пенье без музыки” к лучшим произведениям Бродского, но с геометрией там как раз все в порядке. Вершина треугольника, основанием которого служит расстояние между Ленинградом и Лондоном, находится в стратосфере, в точке пересечения взглядов разлученных любовников. Поэт называет эти взгляды катетами. Что ж в этом неправильного? Разве угол, образованный их пересечением, не может быть прямым? Как ни развернута геометрическая метафора Бродского, она как раз проста и не требует объяснения. Объяснить себе хочется другое — как такую ошибку мог допустить Солженицын, математик по образованию, учитель математики. И объяснение напрашивается одно: даже такой художественно чуткий читатель, как Солженицын, не может преодолеть пропасти между поколениями. Он лишен высокого наслаждения, он не слышит смысловой музыки Бродского, до него доходит, в основном, шум и хаос — “необязательные слова и синтагмы”, “переобремененные фразы” с “несуразными внутренними стыками”, “капризное мелькание мыслей, фантазий и малоосмысленные словесные переливы”.
Мой товарищ, писатель Игорь Ефимов, написал статью, в которой он убедительно показывает предвзятость солженицынской критики. Солженицын слышит в “Речи о пролитом молоке” только раздражение и не замечает там отчетливых лирических пассажей, сентиментального конца. Солженицын упрекает Бродского в аполитичности, Ефимов указывает на пафос свободы, которым проникнута поэзия Бродского. На упрек в неумеренной любви к Западу Ефимов отвечает справедливым указанием на то, что Бродский восстановил в неподцензурной поэзии такие слова-понятия, как “отчизна”, “отечество”, “родина”, казалось бы, омертвленные советской пропагандой. На замечания о непрочности религиозного чувства Ефимов возражает указанием на такие монументальные трактующие проблемы веры произведения, как “Большая элегия Джону Донну”, “Исаак и Авраам”, “Разговор с небожителем”. Вывод, который уважительно и печально делает Ефимов: Солженицын “отказывается вслушиваться в поэтический голос сердцем, но начинает проверять его критериями правильного и неправильного, доброго и злого, канонами стихосложения и догматами веры”. Иными словами, Солженицын читает Бродского предвзято, как Толстой читал Шекспира, как Соловьев читал Лермонтова.
Все это верно, но солженицынская критика по существу настолько несостоятельна, что вся ее рефутация несколько безадресна. Тем, кто любит и понимает Бродского, оно и так очевидно. Тех, кого раздражает его поэзия, логикой и фактами не переубедишь. Нравится — не нравится. С этим глубинным подсознательным фактором в восприятии художественного текста ничего не поделаешь. В какой-то степени можно воспитывать вкус и художественную восприимчивость в очень молодых людях, но по достижении определенного возраста эстетические критерии интегрируются в личность, отказаться от них все равно, что отказаться от самого себя. Нравится — не нравится, “ндра” или “не ндра”, как говорил Е. Л. Шварц. У того же Шварца в “Превратностях характера” есть место, которое я очень люблю: “Художник... сделал снег синим, желая показать, что заметил эту его особенность. Более того — синий цвет настолько поразил его, что он невольно преувеличил синеву снега. А мы думали: „В природе-то понежнее"”. У Солженицына один герой замечательно призывает не забывать, что историю никогда вполне объяснить нельзя, что она загадочна. Понежнее и позагадочнее и то, что сказал Солженицын о Бродском.
Я не о том, что в своих раздраженно-придирчивых заметках Солженицын то и дело, как бы противореча себе, высказывает восхищение отдельными вещами Бродского, причем не только теми, где поэт ближе, чем обычно, к канону девятнадцатого века (“Сретенье”, “На смерть Жукова”, “На столетие Анны Ахматовой”), но и такими наиболее репрезентативными, с точки зрения индивидуальной манеры Бродского, как “Большая элегия Джону Донну”, “Бабочка”, “Осенний крик ястреба”. Не о том, что иногда он находит удивительно хорошие слова, чтобы описать свои впечатления: “Рождественская тема обрамлена как бы в стороне, как тепло освещенный квадрат”. Нет, то и дело то, что говорит Солженицын, звучит сложнее, внутренне противоречивее, чем то, что он хочет сказать. Вот он вроде бы бросает Бродскому традиционное обвинение в беспочвенности: “И так получилось, что, выросши в своеобразном ленинградском интеллигентском круге, обширной русской почвы Бродский почти не коснулся” (что, кстати сказать, противоречит фактам биографии поэта, но об этом ниже). Вслед за этим идет: “Да и весь дух его — интернациональный, у него отприродная многосторонняя космополитическая преемственность”. Что это — осуждение, нейтральная констатация, похвала? Я убежден, что идиоты, выискивающие у Солженицына антисемитизм, произведут примерно такую “деконструкцию” этой фразы: Бродский — нерусский по происхождению, потому и страдают его стихи “беспочвенностью”. Тут при желании можно различить и отголосок формулы сталинского антисемитизма — “безродный космополит” (здесь: “отприродный космополит”). Но “отприродный космополит” — это ведь Пушкин, или “всемирно отзывчивый” русский человек будущего по Достоевскому.
2 А как Бродский читал Солженицына?
Бродский писал о Солженицыне в своем, на мой взгляд, неудачном, обзоре новой русской прозы, “Катастрофы в воздухе” (1984), а раньше, в 1973-м, в отклике на “Архипелаг ГУЛаг”. “ГУЛаг” он безо всяких оговорок признавал великим произведением. Не так уж часто он по-настоящему принимал мои замечания, поэтому мне особенно запомнилось, как мы говорили о “ГУЛаге” и я сказал, что вот признак настоящего эпоса — его необязательно читать подряд от начала к концу, а можно, как “Илиаду” или “Махабхарату”, открыть на любом месте, и зачитаешься, и все будет понятно. Иосиф сразу согласился и потом не раз это вспоминал.
В “Катастрофах” Бродский если и не выстраивает целиком свою иерархию русской прозы двадцатого века, то во всяком случае определенно обозначает вершину. Абсолютный пик для него — Андрей Платонов, пронзительную стилистику которого он описывает как производное от платоновской же не менее пронзительной философской антропологии, непревзойденной степени понимания трагедии человека в век тотальных войн и тоталитарных режимов. Восторженное отношение Бродского к Платонову можно разделять полностью или не полностью или вовсе не принимать, можно в принципе не принимать любые попытки загонять такое гетерогенное явление, как литература, в табель о рангах. Но мы сейчас просто констатируем — для Бродского такая иерархия существовала, у него было представление о “великом писателе”, близкое к тому, которое исповедовала Цветаева (“Искусство при свете совести”): “Великий писатель — тот, кто удлиняет перспективу человеческого мироощущения, кто показывает выход, предлагает путь человеку, у которого ум зашел за разум, — человеку, оказавшемуся в тупике, — пишет Бродский, и, хотя великий русский писатель двадцатого века для него один, Платонов, — после Платонова русская проза ближе всего подошла к тому, чтобы породить такого писателя, когда появились Надежда Мандельштам с ее мемуарами и, в несколько меньшей степени, Александр Солженицын с его романами и документальной прозой”. Тут это “третье место”, это “в несколько меньшей степени” вряд ли может восприниматься как недооценка, ведь речь идет о всем корпусе русской прозы двадцатого века, стало быть, ниже трех возвышенных Бродским писателей находятся Бунин, Сологуб, Белый, Замятин, Бабель, Зощенко и менее канонические, но высоко ценимые Бродским Вагинов, Добычин и Мариенгоф (как прозаик). То, что имя Солженицына он называет вслед за неожиданным в этом списке именем Надежды Мандельштам, свидетельствует об искренности оценки. Кабы это была уступка общепринятым взглядам, он бы и назвал Солженицына рядом с авторами “Мастера и Маргариты” и “Доктора Живаго”, которым, вскользь, отдает должное, но Бродский, как всегда, чистосердечен — мемуары Мандельштам произвели на него колоссальное впечатление именно как художественная проза, и близкое чувство он испытывал, читая Солженицына: “Помню, когда я ее (главу седьмую “Ракового корпуса”. — Л. Л.) читал, у меня только что пальцы не дрожали...”.
Скажу еще раз, мне не нравится это сочинение Бродского (первоначально этот текст был второпях написанной по заказу лекцией). К хорошей старой заметке о Платонове (первоначально — предисловие к ардисовскому двуязычному изданию “Котлована”) прибавлены разрозненные любимые мысли о Достоевском, о реализме, о назначении литературы в наше время, а к ним подверстаны списки. Полагаю, что в списки попали даже и авторы, которых Бродский не читал (“чаще других произносится имя Валентина Распутина”). Списки сопровождаются столь огульными обобщениями, что их трудно принимать всерьез. Только о двух писателях, кроме Платонова, говорится подробно, в масштабах статьи, и, главное, из живого читательского опыта — об Алешковском и Солженицыне. Только эти двое из современных русских прозаиков действительно волновали Бродского.
В 1977 году Бродский написал отклик на выход в Америке на английском языке четырех книг: III и IV томов “Архипелага ГУЛаг”, сборника статей под редакцией А. И. Солженицына “Из-под глыб” и трактата Роя Медведева “О социалистической демократии”. В авторизованном переводе Барри Рубина статья была опубликована в ежеквартальнике “Партизан ревью”, журнале творческой интеллигенции, идеологически близком “новым правым”, т.е. либеральным антикоммунистам. Русский текст остался без названия. Сокращенному варианту, напечатанному в “Литературном обозрении”, публикатор дал напрямую переведенное название “География зла”, что по-русски звучит двусмысленно. “Зло” в названии статьи — имя существительное. “Потому что человек в состоянии уразуметь только то количество зла, на которое он сам способен, все попытки художественного или документального описания преступлений, производимых в государственном масштабе, обречены на неудачу”, — начинает Бродский и далее объясняет, какой ценой Солженицыну удалось невозможное — создать текст, адекватный невообразимому размаху зла, учиненного Советским Союзом: “[У] него хватило эстетического — как это ни парадоксально — чутья отказаться от „чувства меры", воспитанного в нас литературой девятнадцатого столетия”.
Высшим открытием литературы нового времени Бродский считал абсурд. Его больше впечатлял лишенный юмористического шарма абсурдизм Беккета, чем веселый дадаистический абсурдизм Хармса или смысловые перевертыши в духе Льюиса Кэрролла или Эдварда Лира, или даже сюрреалистические гротески Ионеско или Мрожека. Зло-Абсурд Бродского — это Зло-Хаос, глядящий на человека сквозь прорехи бытия у романтиков. Любая развлекательность, литературность гримирует и приодевает абсурд, маскирует хаос. Нельзя развлекать тем, что по природе своей однообразно, бесконечно повторяемо и монотонно, а “литература одомашнивает зло”. Какими стилистическими средствами приближается автор к адекватному изображению зла — как Беккет или как Солженицын — второстепенно. “В одной из глав (“Ракового корпуса”. — Л. Л.) Солженицын описывает тяжелые будни женщины-врача. Тусклость и монотонность описания несомненно соответствуют списку ее обязанностей, эпических по своему объему и идиотизму; однако список этот продолжается дольше, чем представляется возможным сохранить бесстрастный тон в его описании... Помню, когда я ее читал, у меня только что пальцы не дрожали: „Вот, вот, сейчас оно произойдет..."” Происходит “оно”, однако, не в “Раковом корпусе”, а в “Архипелаге”, потому что здесь Солженицын достигает того, что недоступно литературному абсурдизму, — создает адекватную книгу зла: “Всякая книга зла длинна и монотонна...”
3 Прочитав мысли Солженицына о Бродском, мне захотелось сопоставить их с мыслями Бродского о Солженицыне, а отсюда потянулась цепочка сравнений, парадоксальных противоположностей.
Мыслящий категориями народа, народной судьбы, народного духа Солженицын — по жизни интеллигент, совершивший невольное хождение в народ. Элитарно мыслящий Бродский — буквально “от станка”, почти буквально “от сохи”.
Стремящийся быть прочитанным массами Солженицын создает литературный язык, по степени искусственности сравнимый с языком футуристов. Бродский, представляющий себе читателя разве что как alter ego, пишет, исходя из просторечия современников.
Сугубый затворник Солженицын если редко-редко и встретится с людьми, то лишь в тщательно спланированных, почти ритуальных обстоятельствах, но осуждает за гордыню одиночества, крайний индивидуализм спонтанно общительного, всю жизнь окруженного приятелями, учениками, подружками, всегда с ухом на телефонной трубке Бродского.
У православного, вовлеченного в проблемы своей церкви, знающего ее историю Солженицына в творчестве религиозная тема почти отсутствует. Для “плохого еврея” и “христианина-заочника”, по собственным ерническим определениям, Бродского вера, “свет ниоткуда” — самая постоянная тема самой страстной лирики.
Две контрастные личности. Два контрастных творчества. То, что одному дано от природы, другой добывает пером. Хоть симметрическую диаграмму вычерчивай, но тут я снова вспоминаю: “В природе-то понежнее”. Дрожат у Бродского пальцы, когда он читает “Раковый корпус”, и восхищение охватывает Солженицына, когда он читает “Осенний крик ястреба”.
Большинство ныне пишущих о Солженицыне иронически цитируют его языковые выкрутасы. Складывается представление о новом адмирале Шишкове с “мокроступами” и “шарокатами”, а то и писателе-деревенщике из пародии Архангельского: “Инда рассупонилось солнышко...” Между тем странноватый русский язык позднего Солженицына — это стилистическое экспериментаторство, попытка создать необычный (предположительно, более выразительный) художественный язык путем использования немобилизованных ресурсов русского языка. Проект в духе “серебряного века” — очень похоже на то, чем занимались Хлебников, Цветаева, Замятин. И вот что я вспоминаю в связи с этим. Десять лет тому назад вышел солженицынский “Русский словарь языкового расширения”, копилка просторечных, диалектных, устарелых слов, которые Солженицын хочет ввести в обиход. Я, рассказывая Бродскому по телефону об этой книге, отозвался обо всей затее как о наивной (я и сейчас считаю, что язык сам о себе позаботится, что он не становится ни хуже, ни лучше). Но Иосиф чрезвычайно заинтересовался словарем, по-моему, даже собирался купить. Я подумал: “Потому что искусство поэзии требует слов...”
* * * Мой дом стоит примерно в полукилометре от реки Коннектикут, а еще чуть подальше, за рекой и вдоль нее, проходит автострада “Интерстейт-91”. От канадской границы на севере она идет вдоль восточной кромки штата Вермонт, пересекает штаты Массачусетс и Коннектикут и кончается, упираясь в “Интерстейт-95” возле города Нью-Хейвена на берегу Атлантического океана. Оттуда уже рукой подать до Нью-Йорка. Двадцать с лишним лет я езжу по девяносто первой дороге, знаю все придорожные холмы, долины и собственные привычные мысли о литературном отшельничестве. Там, в вермонтской глуши, прятался несколько лет малообщительный Саша Соколов. Слева за рекой ревниво хранит свое уединение Сэлинджер, почти симметрично , направо — Кавендиш, где Солженицын, отгородившись от суеты, работал над своей эпопеей. Проезжаем Браттлборо, последний перед Массачусетсом вермонтский городок, здесь лет сто назад прожил четыре года Киплинг, писал “Книгу джунглей”. Массачусетская граница , и через полчаса замелькают указатели на Амхерст и Саут-Хедли. “Амхерстская затворница”, великая Эмили Дикинсон провела в Амхерсте всю жизнь, последние пятнадцать лет вовсе не выходя из дому. А в соседнем Саут-Хедли свои последние пятнадцать лет жил Бродский. Он здесь преподавал в колледже Маунт-Холиок да и просто убегал сюда от нью-йоркской суеты. Дальше, на излете девяносто первой, живет Юз Алешковский.
В одно прекрасное апрельское утро Солженицын выглянул в окно и подумал: “А черт с ней, с работой! Съезжу-ка лучше, поговорю с поэтом о хаотичности века сего и о гармонической задаче поэзии”. День будний, время утреннее, движения на девяносто первой дороге почти никакого — часа через полтора поднимался он на крыльцо Бродского.
Или нет, Бродский решил вдруг нагрянуть в Кавендиш, и — день будний, время утреннее, дорожной полиции на девяносто первой дороге в это время нет — домчался за какой-то час...
Таковы извечные читательские фантазии. Всё нам хочется, чтобы Пушкин с Лермонтовым гулял, чтобы Толстой с Достоевским подружились. Но “в природе-то понежнее”. Прожив полтора десятилетия в соседстве, как Толстой и Фет, Бродский и Солженицын ни разу не встретились. А потом два литературных дома опустели. Солженицын, дописав “Февраль”, “Март” и “Апрель 1917-го”, уехал в Россию, а Бродский, говоря словами его старого стихотворения, — “в ту дальнюю страну, где больше нет ни января, ни февраля, ни марта”.
Источник: http://magazines.russ.ru/zvezda/2000/5/losev.html
Л.Лосев о Владимире Марамзине:За двенадцать лет между первым выступлением в печати в 1962 г. и насильственным устранением из литературы в 1974-м М. удалось опубликовать не более дюжины “взрослых” рассказов, в основном очень коротких. Постоянные отказы выпустить книгу привели к скандальному эпизоду 1968 г., когда М. “оскорбил действием” партийного функционера, возглавлявшего Ленинградское отделение издательства “Советский писатель”. За это его осудили на один год условно.
Это первое серьезное столкновение с властями не сделало М. осторожнее. Он поддерживал тесные связи с диссидентскими кругами Москвы и Ленинграда, распространял запрещенную литературу. Не имея формальной филологической подготовки, но благодаря неутомимому интересу к жизни и творчеству Андрея Платонова, М. стал опытным исследователем и редактором. Он разыскал и подготовил к публикации несколько ранних произведений писателя, составил полную платоновскую библиографию.
В 1971 г. М. предпринял свой собственный самиздатский проект: полное собрание сочинений Иосифа Бродского — из текстов, хранившихся в частных домах ленинградцев и москвичей. В процессе этой работы М. также собрал и систематизировал архив поэта и сумел надежно спрятать его от властей, когда Бродский в 1972 г. был выслан из СССР (в настоящее время архив Бродского находится в Российской национальной библиотеке в Петербурге). Самиздатское собрание сочинений Бродского 1957—1972 гг. получило название “марамзинского”. На его основе были подготовлены все последующие печатные книги, а комментарий М. стал бесценным источником для изучающих творчество Бродского.
Весной 1974 г. КГБ провел обыски на квартирах М. и Михаила Хейфеца, историка и писателя, написавшего вступительный очерк к “марамзинскому собранию”. Хейфец был арестован немедленно, а М. три месяца спустя. После восьми месяцев следствия, проведенных в одиночном заключении, М. судили и вновь дали условный срок. Вскоре после освобждения из-под стражи ему было предложено покинуть страну.
С 1975 г. М. живет в Париже. Ему удалось напечатать все свои прежде не опубликованные произведения и новые вещи в эмигрантских журналах и издательствах. Многие из его рассказов и повестей появились в переводах на французский, английский, немецкий и другие европейские языки. В 1978—1986 гг. он был издателем-спонсором журнала “Эхо”, в то время наиболее авангардно ориентированного среди зарубежной русскоязычной периодики (соредактором был А. Хвостенко).
Десятилетний перерыв литературной деятельности продолжался с конца 1980-х до конца 1990-х гг. С 1999 г. М. начал публиковать новые рассказы и эссе. В 2003 г. в Париже он выпустил сборник новой прозы “Сын Отечества”.
Источник: http://magazines.russ.ru/zvezda/2004/8/lo8.html
Биография Бродского, часть 1 Биография Бродского, часть 2 Биография Бродского, часть 3
Cтраницы в Интернете о поэтах и их творчестве, созданные этим разработчиком: [ Музей Иосифа Бродского в Интернете ] [ Музей Арсения Тарковского в Интернете ] [ Музей Вильгельма Левика в Интернете ] [ Музей Аркадия Штейнберга в Интернете ] [ Поэт и переводчик Семен Липкин ] [ Поэт и переводчик Александр Ревич ] [ Поэт Григорий Корин ] [ Поэт Владимир Мощенко ] [ Поэтесса Любовь Якушева ]
Требуйте в библиотеках наши деловые, компьютерные и литературные журналы: [ СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ] [ МАРКЕТИНГ УСПЕХА ] [ ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА ] [ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ ] [ НОУ-ХАУ БИЗНЕСА ] [ БИЗНЕС-КОМАНДА И ЕЕ ЛИДЕР ] [ КОМПЬЮТЕРЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ] [ КОМПЬЮТЕРНАЯ ХРОНИКА ] [ ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ] [ БИЗНЕС.ПРИБЫЛЬ.ПРАВО ] [ БЫСТРАЯ ПРОДАЖА ] [ РЫНОК.ФИНАНСЫ.КООПЕРАЦИЯ ] [ СЕКРЕТНЫЕ РЕЦЕПТЫ МИЛЛИОНЕРОВ ] [ УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕМ ] [ АНТОЛОГИЯ МИРОВОЙ ПОЭЗИИ ]
ООО "Интерсоциоинформ"
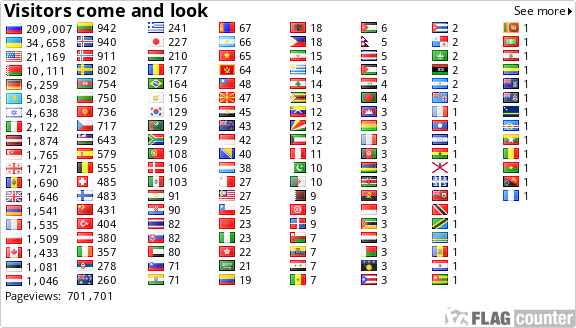
Спорные страницы

Иосиф Бродский в 1972 году в Лондоне на международном
фестивале поэзии.
Рядом - У.Х.Оден, крайний слева Стивен Спендер.
(Из коллекции фотографий Валентины Полухиной. Этой фотографии не было даже у самого Бродского,
я ему ее подарила в 1978, когда он в первый раз приехал в наш университет.
Следовало бы добавить, что рядом с Оденом американский поэт Джон Ашбери. - Прим. В.П.Полухиной).
Соломон Волков. Диалоги с Иосифом Бродским
СВ: Ко второй вышедшей в переводе на английский книге ваших стихов, опубликованной в 1973 году, предисловие написал знаменитый поэт Уистен Хью Оден. Меня очень привлекает этот автор. В России Оден практически неизвестен. Я начал читать его стихи и прозу после слушания ваших лекций в Колумбийском университете. Теперь я хотел бы узнать больше об Одене-человеке. Опишите мне лицо Одена. ИБ: Его часто сравнивали с географической картой. Действительно, было похоже на географическую карту с глазами посредине. Настолько оно было изрезано морщинами во все стороны. Мне лицо Одена немножко напоминало кожицу ящерицы или черепахи. СВ: Стравинский жаловался, что для того, чтобы увидеть, что из себя представляет Оден, его лицо надо бы разгладить. Генри Мур, напротив, с восхищением говорил о "глубоких бороздах, схожих с пересекающими поле следами плуга". Сам Оден с юмором сравнивал свое лицо со свадебным тортом после дождя. ИБ: Поразительное лицо. Если бы я мог выбрать для себя физиономию, то выбрал бы лицо либо Одена, либо Беккета. Но скорее Одена. СВ: Когда Оден разговаривал, его лицо двигалось? Жило? ИБ: Да, мимика его была чрезвычайно выразительна. Кроме того, по-английски с неподвижным лицом говорить невозможно. Исключение - если вы ирландец, то есть если вы говорите почти не раскрывая рта. СВ: Быстро ли Оден говорил? ИБ: Чрезвычайно быстро. Это был такой "Нью-Йорк инглиш": не то чтобы он употреблял жаргон, но акценты смешивались. Если угодно, это был "british английский", но сдобренный трансатлантическим соусом. Мне, особенно по первости, было чрезвычайно трудно за Оденом следовать; я никогда такого не слышал. Вообще встреча с чужим языком - это то, чего, я думаю, русский человек понять не то что не может - не желает. Он обстоятельствами жизни к этому не подготовлен. Вот вы знаете, как приятно услышать, скажем, петербургское произношение. Столь же приятно, более того - захватывающе, ошеломительно было для меня услышать оксфордский английский, "оксониан". Феноменальное благородство звука! Это случилось, когда мы приехали с Оденом в Лондон, и я услышал английский из уст близкого друга Одена, поэта Стивена Спендера. Я помню свою реакцию - я чуть не обмер, я просто был потрясен! Физически потрясен! Мало что на меня производило такое же впечатление. Ну, скажем, еще вид планеты с воздуха. Мне тотчас понятно стало, почему английский - имперский язык. Все империи существовали благодаря не столько политической организации, сколько языковой связи. Ибо объединяет прежде всего - язык. СВ: Был ли разговор Одена похож на его прозу? То есть говорил ли он просто, логично, остроумно? ИБ: По-английски невозможно говорить нелогично. СВ: Почему же нет? Вполне возможно говорить напыщенно, иррационально... ИБ: Я думаю, нет. Чем английский отличается от других языков? По-русски, по-итальянски или по-немецки вы можете написать фразу - и она вам будет нравиться. Да? То есть первое, что вам будет бросаться в глаза, это привлекательность фразы, ее закрученность, элегантность. Есть ли в ней смысл - это уже не столь важно и ясно, это отходит на второй план. В то время как в английском языке вам тотчас же ясно, имеет ли написанное смысл. Смысл - это первое, что интересует человека, на этом языке говорящего или пишущего. Разница между английским и другими языками - это как разница между теннисом и шахматами. СВ: Как вы разговаривали с Оденом? ИБ: Он был монологичен. Он говорил чрезвычайно быстро. Прервать его было совершенно невозможно, да у меня и не было к тому желания. Быть может, одна из самых горьких для меня вещей в этой жизни - то, что в годы общения с Оденом английский мой никуда не годился. То есть я все соображал, что он говорит, но как та самая собака, сказать ничего не мог. Чего-то я там говорил, какие-то мысли пытался изображать, но полагаю, что все это было настолько чудовищно... Оден, тем не менее, не морщился. Дело в том, что в настоящих людях - я не имею в виду Мересьева - в людях реализовавшихся есть особая мудрость... Назовите это третьим оком или седьмым чувством. Когда вы понимаете, с кем или с чем имеете дело - независимо от того, что человек, перед вами сидящий, вякает. Без разговоров. Это чутье, этот последний, главный инстинкт связан с самореализацией и, как это ни странно, с возрастом. То есть до этого доживаешь - как до седых волос, до морщин. СВ: Мы оба видели много людей старых и совсем глупых... ИБ: Совершенно верно. Вот почему я подчеркиваю важность самореализации. Есть некие ее ускорители, и литература - это один из них. То есть изящная словесность этому содействует. СВ: Если в ней участвуешь... ИБ: Да, совершенно верно, именно если в ней участвуешь. Я думаю, что читатель, как это ни грустно, всегда сильно отстает. Чего он там про себя ни думает, как он того или иного поэта ни понимает, он все-таки, как это ни горько, всего только читатель. Я не хочу сказать, что автор - существо высшего порядка. Но все-таки психологические процессы... СВ: Протекают на разных уровнях... ИБ: Главное - с разной скоростью. Я, например, занялся изящной словесностью по одной простой причине - она сообщает тебе чрезвычайное ускорение. Когда сочиняешь стишок, в голову приходят такие вещи, которые тебе в принципе приходить не должны были. Вот почему и надо заниматься литературой. Почему в идеале все должны заниматься литературой. Это необходимость видовая, биологическая. Долг индивидуума перед самим собой, перед своей ДНК... Во всяком случае, следует говорить не о долге поэта по отношению к обществу, а о долге общества по отношению к поэту или писателю. То есть обществу следовало бы просто принять то, что говорит поэт, и стараться ему подражать; не то что следовать за ним, а подражать ему. Например, не повторять уже однажды сказанного... В старые добрые времена так оно и было. Литература поставляла обществу некие стандарты, а общество этим стандартам - речевым, по крайней мере - подчинялось. Но сегодня, я уж не знаю каким образом, выяснилось, что это литература должна подчиняться стандартам общества. СВ: Это не совсем так. Общество и сейчас очень часто принимает правила игры, предложенные литературой, или, шире, культурой в целом. ИБ: У вас довольно узкое представление об обществе. СВ: Посмотрите на то, что происходит вокруг нас. Иногда кажется, что сейчас как никогда общество подражает тем образам, которые предлагаются, иногда даже навязываются ему искусством. ИБ: Вы имеете в виду телевидение? СВ: Для которого, не забудьте, работают и писатели, и поэты. Диккенс писал свои романы для еженедельных газеток с картинками; сегодня он, вероятно, работал бы на телевидении. И элитарная, и массовая культура- это части единого процесса. ИБ: Соломон, вы живете в башне из слоновой кости. Страшно далеки вы от народа. СВ: С кем бы вы сравнили Одена-человека? ИБ: Внешне, повадками своими он мне чрезвычайно напоминал Анну Андреевну Ахматову. То есть в нем было нечто величественное, некий патрицианский элемент. Я думаю, Ахматова и Оден были примерно одного роста; может быть, Оден пониже. СВ: Ахматова никогда не казалась мне особенно высокой. ИБ: О, она была грандиозная! Когда я с ней гулял, то всегда тянулся. Чтобы комплекса не было. СВ: Вы когда-нибудь обсуждали Одена с Анной Андреевной? ИБ: Никогда. Я думаю, она едва ли догадывалась о его существовании. СВ: Каковы были вкусы Ахматовой в области английской поэзии нового времени? ИБ: Как следует Ахматова ее не знала. И знать не то чтобы не могла - мочь-то она могла, потому что английским владела замечательно, Шекспира читала в подлиннике. (Надо сказать, по части языков у Ахматовой дело обстояло в высшей степени благополучно. Данте я услышал впервые- в ее чтении, по-итальянски. О французском же и говорить не приходится.) Но помимо более чем полувековой оторванности от мировой культуры, помимо отсутствия книг, дело еще и в том, что в России, по традиции, представления об английской литературе были чрезвычайно приблизительные. Об этом и сама Анна Андреевна говорила: что русские об английской литературе судят по тем авторам, которые для литературы этой решительно никакой роли не играют. И Ахматова приводила примеры - один не очень удачный, а другой - удачный чрезвычайно. Неудачный пример - Байрон. Удачный - какой-нибудь там Джеймс Олдридж, который вообще все писал, сидючи в Москве или на Черном море. Если говорить серьезно, то представление об английской литературе в России действительно превратное (я имею в виду не только XX век, но и прошлые века). За исключением двух-трех фигур - скажем, того же Диккенса, совершенно замечательного писателя. Но ведь мы говорим как раз о поэзии; о ней вообще ничего неизвестно. Причины тому самые разнообразные, но прежде всего, я думаю, географические (которые я больше всего на свете и уважаю). Вспомните: у русских для всех народов, населяющих Европу, найдены презрительные клички, да? Немцы - это "фрицы", итальянцы - "макаронники", французы - "жоржики", чехи - "пепики". И так далее. Только с англосаксами как-то ничего не получается. Видно, пролив существует недаром. Мы не очень терлись друг о друга (что и замечательно). Другая причина - известная несовместимость того, что написано по-английски (особенно в стихах) с русской поэзией или с традиционным русским представлением об эстетическом. Англичан, прежде всего, трудно переводить. Но когда они уже переведены, то непонятно, что же перед нами возникает. Все мы в России знаем, что был великий человек Шекспир, но воспринимаем его как бы в некоторой перекидке, приноравливая, скорее всего, к Пушкину. Или возьмем переводы из Шекспира Пастернака: они, конечно, замечательны, но с Шекспиром имеют чрезвычайно мало общего. Очевидно, тональность английского стиха русской поэзии в сильной степени чужда. Единственный период совпадения вкусов - и тона - имел место, я думаю, в начале XIX века, в период романтизма. В тот момент вся мировая поэзия была примерно на одно лицо. Да и то Байрона в России не очень поняли. Русский Байрон - это сексуально озабоченный романтик, в то время как Байрон чрезвычайно остроумен, просто смешон. И этим действительно напоминает Александра Сергеевича Пушкина. СВ: Когда вы впервые услышали об Одене? Когда прочли его? ИБ: Услышал я о нем, наверное, лет двадцати пяти, когда впервые в какой-то степени заинтересовался литературой. Тогда Оден был для меня всего лишь одним именем среди многих. Первым всерьез об Одене заговорил со мной Андрей Сергеев - мой приятель, переводчик с английского. Фрост (среди прочих поэтов) русскому читателю представлен Сергеевым: если для меня существовал какой-нибудь там высший или страшный суд в вопросах поэзии, то это было мнение Сергеева. Но по тем временам я Сергеева еще таким образом не воспринимал. Мы с ним только-только познакомились. После того как я освободился из ссылки, я ему принес какие-то свои стишки. Он мне и говорит: "Очень похоже на Одена". Сказано это было, по-моему, в связи со стихотворением "Два часа в резервуаре". Мне в ту пору стишки эти чрезвычайно нравились; даже и сейчас я их не в состоянии оценивать объективно. Вот почему я так заинтересовался Оденом. Тем более что я знал, что Сергеев сделал русского Фроста. СВ: Кажется, Сергеев встречался с Фростом, когда тот приезжал в Советский Союз в 1962 году? ИБ: Да. Сергеев много занимался англоамериканской поэзией, именно поэтому я его мнение чрезвычайно ценю. Я, пожалуй, сказал бы, что мнение Сергеева о моих стишках мне всегда было важнее всего на свете. Для меня Сергеев не только переводчик. Он не столько переводит, сколько воссоздает для читателя англоязычную литературу средствами нашей языковой культуры. Потому что англоязычная и русская языковые культуры абсолютно полярны. Тем переводы, между прочим, и интересны. В этом их, если угодно, метафизическая сущность. Вот я, естественно, и заинтересовался Оденом, принялся читать, что можно было достать. А достать можно было антологию новой английской поэзии, изданную в 1937 году и составленную Гутнером, первым мужем второй жены Жирмунского, Нины Александровны. Насколько я знаю, все переводчики этой антологии либо были расстреляны, либо сели. Мало кто из них выжил. Я знал только одного такого выжившего - Ивана Алексеевича Лихачева. Большой, очень тонкий человек, любитель одноногих. Царство ему небесное, замечательный был господин. Вот эта антология и стала главным источником моих суждений об Одене об ту пору. По качеству переводов это ни в какие ворота, конечно, не лезло. Но английского я тогда не знал; так, что-то только начинал разбирать. Поэтому впечатление от Одена было приблизительное, как и сами переводы. Чего-то я там просек, но не особенно. Но чем дальше, тем больше... Начиная примерно с 1964 года, я почитывал Одена, когда он попадался мне в руки, разбирая стишок за стишком. Где-то к концу шестидесятых годов я уже начал что-то соображать. Я понял, не мог не понять его - не столько поэтику, сколько метрику. То есть это и есть поэтика. То, что по-русски называется дольник - дисциплинированный, очень хорошо организованный. С замечательной цезурой внутри, гекзаметрического пошиба. И этот привкус иронии... Я даже не знаю, откуда он. Этот иронический элемент - даже не особенно достижение Одена, а скорее самого английского языка. Вся эта техника английской "недосказанности"... В общем, Оден нравился мне больше и больше. Я даже сочинил некоторое количество стихотворений, которые, как мне кажется, были под его влиянием (никто никогда не поймет этого, ну и слава Богу): "Конец прекрасной эпохи", "Песня невинности, она же - опыта", потом еще "Письмо генералу" (до известной степени), еще какие-то стихи. С таким немножечко расхлябанным ритмом. По тем временам мне особенно нравились два поэта - Оден и Луи Макнис. Они и до сих пор продолжают мне быть чрезвычайно дороги; просто их читать чрезвычайно интересно. К концу моего существования в Советском Союзе - поздние шестидесятые, начало семидесятых - я Одена знал более или менее прилично. То есть для русского человека я знал его, полагаю, лучше всех. Особенно одно из сочинений Одена, его "Письмо лорду Байрону", над которым я изрядно потрудился, переводя. "Письмо лорду Байрону" для меня стало противоядием от всякого рода демагогии. Когда меня доводили или доводило, я читал эти стихи Одена. Русскому читателю Оден может быть тем еще дорог и приятен, что он внешне традиционен. То есть Оден употребляет строфику и все прочие причиндалы. Строфы он как бы и не замечает. Лучших сикстин, я думаю, после него никто не писал. Один из современников Одена, замечательный критик и писатель Сирил Конноли сказал, что Оден был последним поэтом, которого поколение тридцатых годов было в состоянии заучивать на память. Он действительно запоминается с той же легкостью, что и, например, наш Грибоедов. Оден уникален. Для меня он - одно из самых существенных явлений в мировой изящной словесности. Я сейчас позволю себе ужасное утверждение: за исключением Цветаевой, Оден мне дороже всех остальных поэтов. СВ: Как вы вступили в контакт с Оденом? ИБ: Когда мой переводчик Джордж Клайн приехал в Советский Союз, он сообщил мне, что английское издательство "Пингвин" собирается выпустить мою книжку. Я уж не помню, когда это было... В предыдущем воплощении... Клайн спросил: "А кого бы вы, Иосиф, попросили написать предисловие?" Я сказал: "Господи, разумеется, Одена! Но это маловероятно". И мое удивление было чрезвычайно велико, когда я узнал, что Оден действительно согласился на такое предисловие. С того момента мы были в некоторой переписке (пока я еще жил в Союзе). Он мне присылал книжечки, открыточки. Я ему в ответ - открыточки на моем ломаном инглише. СВ: Когда вы встретились с Оденом? ИБ: В июне 1972 года. Когда я приземлился в Вене, меня там встретил американский издатель Карл Проффер, мой приятель. Я знал, что Оден проводит лето в Австрии, вот и попросил Проффера - нельзя ли его разыскать? Прилетел я в Вену 4 июня, а 6 или 7 мы сели в машину и отправились на поиски этого самого Кирхштеттена в северной Австрии, где Оден жил (в Австрии этих Кирхштеттенов три). Наконец, нашли нужный Кирхштеттен, подъехали к дому; экономка нас погнала, сказав, что Одена дома нет (собственно, погнала Карла, потому что я по-немецки ни в зуб ногой). И мы уж совсем собрались уходить, как вдруг я увидел, что по склону холма подымается плотный человек в красной рубахе и подтяжках. Под мышкой он нес связку книг, в руке пиджак. Он шел с поезда - приехал из Вены, накупив там книг. СВ: Как вы с Оденом нашли общий язык? ИБ: В первый же день, когда мы сели с ним в этом самом Кирхштеттене и завелись разговаривать, я принялся его допрашивать. Это было такое длинное интервью на тему: что он думает о разных англо-язычных поэтах. В ответ Оден выдавал мне (с некоторой неохотой) довольно точные формулировки, которые и по сей день для меня - ну, не то чтобы закон, но все же нечто, что следует принимать во внимание. Все это происходило, что называется, в несколько сессий. Оден был объективен, оценивал поэтов независимо от личных симпатий-антипатий, от того, близка ли ему была данная идиома или нет. Помню, он высоко оценил Роберта Лоуэлла как поэта, хотя относился к нему как человеку с большим предубеждением. У него в ту пору к Лоуэллу были претензии морального порядка. Очень высокого мнения Оден был о Фросте; довольно хорошо отзывался об Энтони Хехте. Вы понимаете, это не тот человек, который говорил бы: "Ах! Как замечательно!" СВ: А вас Оден расспрашивал? ИБ: Его первый вопрос был такой: "Я слышал, что в Москве, когда человек оставляет где-нибудь свою машину, он снимает "дворники", кладет их в карман и уходит. Почему?" Типичный Уистен. Я принялся объяснять: "дворников" мало, потому что запчасти изготовляются с большими перебоями, ничего недостать. Но, несмотря на мои объяснения, это обстоятельство осталось для Одена одной из русских загадок. СВ: Говорил Оден с вами о русской литературе? ИБ: Да, спрашивал о тех русских поэтах, которых знал. Говорил, что единственный русский писатель, к которому он хорошо относится, это Чехов. Еще, помню, Оден заметил, что с Достоевским он не мог бы жить под одной крышей; такое нормальное английское выражение. Да? Кстати, Оден написал вполне одобрительную рецензию на том Константина Леонтьева, переведенный на английский. СВ: Стивен Спендер рассказывал как-то, что на них всех огромное воздействие оказало раннее советское кино. Спендер вспоминал, что в тридцатые годы, когда он и Кристофер Ишервуд жили в Берлине, они выискивали в газетах - не идет ли где-нибудь советский фильм, а найдя, обязательно шли смотреть. Вероятно, представления людей этого круга о советской действительности сложились под впечатлением "Путевки в жизнь" и прочих подобных советских фильмов. ИБ: Думаю, не столько "Путевки в жизнь", сколько Эйзенштейна. Мое ощущение, что Эйзенштейн повлиял на Одена более или менее впрямую. Ведь что такое Эйзенштейн, вообще русский кинематограф того периода? Это замечательное обращение с монтажом, Эйзенштейном подхваченное, в свою очередь, у поэзии. И если взглянуть, чем Оден отличается от других поэтов, окажется - именно техникой монтажа. Оден - это монтаж, в то время как Пабло Неруда - это коллаж. СВ: В разговоре о советском кино Спендер особо выделял то, что он называл "поэтическим символизмом": изображение тракторов, паровозов, заводских труб... А вас не удивляли левые взгляды Одена? ИБ: К моменту нашего с ним знакомства от этих взглядов не осталось камня на камне. Но я понимаю, что происходило в сознании западных либералов об ту пору, в тридцатые годы. В конце концов, невозможно смотреть на существование, на человеческую жизнь, и быть довольным тем, что видишь. В любом случае. И когда тебе представляется, что существует средство... СВ: Альтернатива... ИБ: Да, альтернатива, - ты за нее хватаешься, особенно по молодости лет. Просто потому, что совесть тебя мучает: "что же делать?" Но поэт отказывается от политических решений какой бы то ни было проблемы быстрее других. Вот и Оден отошел от марксизма чрезвычайно быстро: думаю, что он серьезно относился к марксизму на протяжении двух или трех лет. СВ: Кажется, Ахматова однажды высказалась довольно иронически на тему флирта западных интеллектуалов с коммунизмом? ИБ: Да, как-то мы с Анатолием Найманом обсуждали в ее присутствии следующую тему: что вот-де какие замечательные американские писатели, как они понимают про жизнь и существование, какая в них твердость, сдержанность и глубина. Все как полагается. И между тем все они, когда выводят героя с левыми симпатиями, дают колоссальную слабину. Да? СВ: Хемингуэй в "Пятой колонне"... ИБ: Ну чего там говорить про Хемингуэя. Но вот даже Фолкнер, который самый из них приличный... СВ: Да, у него тоже эта Линда Сноупс... ИБ: На что Ахматова заметила: "Понять, что такое коммунизм, может только тот человек, который живет в России и ежедневно слушает радио". СВ: Оден спрашивал о вашем советском опыте: суд, ссылка на Север и прочее? ИБ: Он задал несколько вопросов по этому поводу. Но я как человек светский (или, может быть, у меня неверное представление о светскости?) на эту тему предпочитаю особо не распространяться. Человек не должен позволять себе делать предметом разговора то, что как бы намекает на исключительность его существования. СВ: Опишите дом Одена в Кирхштеттене. ИБ: Это был двухэтажный дом. Оден жил там со своим приятелем, Честером Каллманом, и с экономкой-австриячкой. В доме была потрясающая кухня - огромная, вся заставленная специями в маленьких бутылочках. Настоящая кухонная библиотека. СВ: Говорят, там был невероятный беспорядок - повсюду валялось грязное белье, старые газеты, остатки еды? ИБ: Нет, это все художественная литература. Некоторый хаос наличествовал, но белье нигде не валялось. Собственно, наверху я не был, в спальню мне было совершенно незачем ходить. В гостиной было довольно много книг; на стенах - рисунки, среди них очень хороший портрет Стравинского. СВ: Если не ошибаюсь, Оден сильно вам помог в первые дни на Западе? ИБ: Он пытался организовать, устроить все мои дела. Добыл для меня тысячу долларов от American Academy of Poets, так что на первое время у меня были деньги. Каким-то совершенно непостижимым образом телеграммы для меня стали приходить на имя Одена. Он пекся обо мне как курица о своем цыпленке. Мне колоссально повезло. И кончилось это тем, что через две недели после моего приезда в Австрию мы сели в самолет и вместе полетели в Лондон, на фестиваль "Poetry International", где мы вместе выступали, и даже остановились вместе, у Стивена Спендера. Я прожил там пять или шесть дней. Оден спал на первом этаже, Я - на третьем. СВ: Как выглядел рядом с Оденом Спендер? ИБ: Дело в том, что их отношения сложились давным-давно, и Спендер всегда находился в положении, как бы сказать - младшего? Видимо, Спендером самим так было установлено с самого начала. И как бы ясно было, что Уистен - существо более значительное. Да? В этом, между прочим, колоссальная заслуга самого Спендера. Потому что признать чье бы то ни было превосходство, отказаться от соперничества - это акт значительной душевной щедрости. Спендер понял, что Уистен - это дар ему. СВ: После смерти Одена все расспрашивали Спендера о нем... Он даже был вынужден доказывать, что Оден не затаскивал его в свою кровать. ИБ: Да, я знаю, в "The Times Literary Supplement". Я понимаю, что Стивен несколько устал от этой навязанной ему роли - оденовского конфиданта, знатока и комментатора. В конце концов, Спендер - крупный поэт сам по себе. СВ: После Кирхштеттена и Лондона летом 1972 года, когда вы увидели Одена в следующий раз? ИБ: Рождество 1972 года я провел в Венеции, а обратный путь в Америку пролегал через Париж и Лондон. Будучи в Лондоне, я позвонил Одену, который в то время жил в Оксфорде. Я приехал к нему в Оксфорд, мы много разговаривали. После чего я увидел Одена уже только следующим летом, на "Poetry International-1973" в Лондоне. И той же осенью он умер. Это было для меня сильным потрясением. СВ: Вы ощущали Одена как отца? ИБ: Ни в коем случае. Но чем дольше я живу, чем дольше занимаюсь своей профессией, тем более и более реальным для меня становится этот поэт. Тем в большей степени я впадаю в некоторую зависимость от него. Я имею в виду зависимость не стилистическую, а этическую. Влияние Одена я могу сравнить с влиянием Ахматовой. Примерно в той же степени я находился - или по крайней мере оказался - в зависимости от Ахматовой, от ее этики. Иначе, впрочем, и быть не могло, потому что по тем временам я был совершенно невежественный вьюнош. То есть с Ахматовой, если вы ничего не слышали о христианстве, то узнавали от нее, общаясь с нею. Это было влияние, прежде всего, человеческое. Вы понимаете, что имеете дело с хомо сапиенс, то есть не столько с "сапиенс", сколько с "деи". Да? Если говорить о том, кого я нашел и кого потерял, то я бы назвал трех: Анна Андреевна, Оден и Роберт Лоуэлл. Лоуэлл был, конечно, несколько в другом ключе. Но между этими тремя есть нечто общее. СВ: Я давно хотел расспросить вас о Лоуэлле... ИБ: Я знал его относительно давно. Мы познакомились с ним в 1972 году на том же "Poetry International", на который меня привез Оден. Лоуэлл вызвался читать мои стихи по-английски. Что было с его стороны чрезвычайно благородным жестом. И тогда же пригласил приехать к нему в гости в Кент, где он тем летом отдыхал. Моментально возникло какое-то интуитивное понимание. Но нашей встрече помешала одна штука. Дело в том, что к тому моменту я был довольно сильно взвинчен и утомлен всеми этими перемещениями: Вена, Лондон, переезд с одной квартиры на другую. Поначалу тобою владеет ощущение - не то чтобы жадности, не то чтобы боязни - как бы все это не кончилось... Но стараешься все понять и увидеть сразу. Да? И поэтому все смешивается в некоторый винегрет. Я помню, как я приехал на вокзал Виктория, чтобы отправиться к Лоуэллу и, увидев расписание поездов, вдруг совершенно растерялся. Перестал что-либо соображать. И я не то чтобы испугался мысли, что вот куда-то еще надо ехать, но... Сетчатка была переутомлена, наверное, и я с некоторым ужасом подумал еще об одной версии пространства, которая сейчас передо мной развернется. Вы, вероятно, представляете себе, что это такое... СВ: О да! Это ощущение ужаса и неуверенности в том... ИБ: Что же происходит за углом, да? В общем, я просто позвонил Лоуэллу с вокзала и попытался объяснить, почему я не могу приехать. Попытался изложить все эти причины. Но тут монеты кончились; разговор прервался. Лоуэлл потом мне говорил: он решил, что это Уистен уговорил меня не ехать, поскольку между Лоуэллом и Оденом существовала некоторая напряженность. Ничего подобного! Уистен даже не знал, что я собираюсь встретиться с Лоуэллом. Но эта реакция Лоуэлла проливает свет на то, каким он был человеком. Не то чтобы он был закомплексован, но не очень уверен в себе. Конечно, это касается чисто человеческой стороны, потому что как поэт Лоуэлл знал себе цену весьма хорошо. На этот счет у него заблуждений не было. Если не считать Одена, то я не встречал другой более органичной фигуры в писательском смысле. Лоуэлл мог писать стихи при любой погоде. Я не думаю, что у него бывали периоды, когда оно... СВ: Пересыхало... ИБ: Да. То есть, вероятно, это с ним происходило, как со всеми нами время от времени. Но я думаю, это не так мучило Лоуэлла, как мучило большинство его современников - Дилана Томаса, Джона Берримана, Сильвию Плат. На мой взгляд, именно эти мучения и привели Берримана и Плат к самоубийству, а вовсе не алкоголизм или депрессия. Лоуэлл был чрезвычайно остроумный человек, причем один из самых замечательных собеседников, которых я знал. Как я уже говорил, Оден был абсолютно монологичен. Когда я думаю о Лоуэлле, то вспоминаю всякий раз его - не то чтобы сосредоточенность на собеседнике, но огромное внимание к нему. Выражение лица чрезвычайно доброжелательное. И ты понимаешь, что говоришь не стенке, не наталкиваясь на какие-то идиосинкразии, а человеку, который слушает. СВ: А в общении с Оденом такое ощущение не возникало? ИБ: С Оденом ситуация была несколько иная. Когда я приехал, мой английский был в зачаточном или скорее противозачаточном - если учитывать тогдашние шансы русского человека когда-либо им воспользоваться - состоянии. И я даже несколько удивляюсь тому терпению, которое проявлял Оден ко всем моим грамматическим выкрутасам. Я в состоянии был задать несколько вопросов и выслушивать ответы. Но сформулировать свою собственную мысль так, чтобы не было стыдно... К тому же надо учитывать чисто придаточное качество русского мышления, от чего к тому времени я просто был не в состоянии, разговаривая, отделаться. Да? С Лоуэллом получилось по-другому. После встречи в 1972-м мы с ним не виделись до 1975 года. Была дружественная переписка, носившая скорее общий характер. В 1975 году я преподавал в Смитколледже. Вдруг раздается звонок из Бостона от Лоуэлла. Он пригласил меня к себе, наговорив при этом - тут же, по телефону - массу комплиментов (полагаю, впервые взял в руки мою книжку). Опять случился комический эпизод, потому что я приехал к Лоуэллу на наделю раньше или позже, чем было условлено. Уже не помню. Но разговоры с Лоуэллом - это было потрясающе! О Данте, например, со времен бесед с Анной Андреевной мне до 1975 года, то есть до встречи с Лоуэллом, так и не удавалось ни с кем поговорить. "Божественную комедию" он знал так, как мы знаем "Евгения Онегина". Для него это была такая же книга, как и Библия. Или как "Майн кампф", между прочим. СВ: Странное сочетание любимых книг... ИБ: Это сложная история. Дело в том, что Лоуэлл, будучи во время Второй мировой войны призванным в армию, отказался от воинской службы. Он был убежденным пацифистом. И был за это подвергнут какому-то номинальному наказанию, сколько-то отсидел. Но когда война окончилась, то выяснилось, что, хотя иметь пацифистские убеждения - это благородно, но с другой стороны - фашизм был как раз тем злом, с которым действительно бороться следовало. (И многие соотечественники Лоуэлла отправились на фронт и воевали; кто вернулся, а кто и погиб.) Видимо, Лоуэлл при всей своей принципиальности почувствовал себя неуютно. И, как я догадываюсь, решил изучить фашизм более пристально, получить информацию как бы из первых рук. Так он прочел "Майн кампф". Я думаю, именно вульгарность сознания, Гитлеру присущая, произвела впечатление на Лоуэлла. Эта вульгарность обладает собственной поэтикой. Мне это приходило в голову. Дело в том, что во всяком жлобстве есть элемент истины; катастрофично как раз это обстоятельство. Добавьте к этому заявление Одена, сделанное им году примерно в 35 - 36-м, что все дело не в Гитлере, а в том, что Гитлер - внутри любого из нас. Изучение "Майн кампф" соединилось у Лоуэлла со склонностью к депрессии. Он страдал формой маниакально-депрессивного психоза, который, впрочем, никогда не принимал лютого выражения. Но приступы эти были чрезвычайно регулярны. Минимум раз в год он оказывался в лечебнице. И каждый раз, когда Лоуэлл делал что-либо, что было ему, как говорится, против шерсти, когда наступали эти маниакальные периоды, он показывал знакомым в качестве своей любимой книги - "Майн кампф". Это был сигнал того, что Лоуэлл "выпадает". Я думаю, что в состоянии подавленности Лоуэлл идентифицировал себя - до известной степени - с Гитлером. Подоплека этого чрезвычайно проста: мысль о том, что я - дурной человек, представитель зла. Да? На самом деле такая мания куда более приемлема, чем когда человек отождествляет себя с Христом или Наполеоном. Гитлер - это куда более правдоподобно, я считаю. СВ: Вам не кажется, что это все-таки свидетельствует о некоторой психологической и, быть может, интеллектуальной распущенности? ИБ: Вероятно, это так. Лоуэлл обладал примечательной интуицией. Интеллектуальная распущенность - когда ты не обращаешь внимания на детали, а стремишься к обобщению - присуща до известной степени всем, кто связан с литературой. Особенно это касается изящной словесности. Ты стараешься формулировать, а не растекаться мыслию по древу. Это свойственно и мне, и другим. Ну, в моем случае, это, может быть, просто еврейская местечковая тенденция к обобщению. Не знаю. Формулировки Лоуэлла были замечательные. И что мне в нем еще нравилось: он был стопроцентный американец. В образованных американцах меня раздражает этот комплекс неполноценности по отношению к Европе. Эзра Паунд или кто-нибудь другой сбегает в Европу и оттуда начинает кричать, что все американцы - жлобы. На меня это производит столь же дурное впечатление, как вульгарные проявления западничества в России. Дескать, сидим мы как свиньи и лаптем щи хлебаем, в то время как за границей существуют Жан-Жак Руссо и, скажем... СВ: Бруклинский мост... ИБ: Все, что угодно, да? В Лоуэлле этого совершенно не было. СВ: Если исходить из привычных норм общения, то Лоуэлл был, видимо, не самым простым собеседником. То же касается и Одена. Я читал, что Оден вечерами бывал так пьян, что не воспринимал никакой информации. Спендер говорил, что ближе к старости Оден часто забывал все, что говорилось ему после шести часов вечера. ИБ: Дело, может быть, было в качестве информации... Главное, Оден ложился в девять часов спать. Вот в это время подходить к нему было бессмысленно. Насколько я знаю, он всю жизнь соблюдал своеобразный режим. Вставал довольно рано и, я думаю, первый свой мартини выпивал примерно в полдень. Я его помню об это время - в одной руке рюмка, в другой - сигарета. После ланча Оден ложился спать. Просыпался, если не ошибаюсь, часа в три. И тогда начинался вечерний цикл. СВ: При этом Оден был довольно-таки плодовит: стихи, критическая проза, пьесы... ИБ: Я думаю, этот поэт потерял времени меньше, чем кто-либо. Он еще умудрялся невероятно много читать! То есть можно сказать, что вся жизнь Одена сводилась к сочинению, чтению и к мартини между. Всякий раз, когда я с ним разговаривал, первое, о чем заходила речь: что я читал, что читал он. СВ: Было ли для вас проблемой то, что Оден - гомосексуалист? ИБ: По самому началу (при всем том, что я о нем знал и читал) этого я не знал. А когда узнал, на меня это не произвело ни малейшего впечатления. Даже наоборот: я воспринял это как дополнительный повод к отчаянию, у него существовавший. Дело в том, что поэт всегда в той или иной степени обречен на одиночество. Это деятельность такая, при которой помощников просто не имеется. И чем дальше ты этим занимаешься, тем больше отделяешься ото всех и вся. К тому времени я достаточно знал историю изящной словесности, чтобы понять, что поэт обречен на существование не самое благополучное. Особенно в личном смысле. Бывали исключения. Но мы чрезвычайно редко слышим о счастливой семейной жизни автора, будь то поэт русский или англоязычный. Оден на меня производил впечатление очень одинокого человека. Я думаю, что чем лучше поэт, тем страшнее его одиночество. Тем оно безнадежнее... СВ: Тотальнее... ИБ: Совершенно верно, очень точное слово. Конечно же Оден был тотально одинок. И в конечном счете, все сердечные привязанности Одена суть плоды этого одиночества. СВ: Сам Оден в разговоре с вами никогда не касался этой темы? ИБ: Нет, нет. Во-первых, я думаю, что если бы он даже и заговорил об этом, то мой английский об ту пору был настолько неадекватен, что никакой сколько-нибудь содержательной беседы не получилось бы. Да? Во-вторых, Оден принадлежал - просто уж по возрасту - к иной школе. Это гомосексуализм, окрашенный викторианством; совсем другой сорт. СВ: Английской школы... ИБ: Если угодно, да. Но здесь еще более важным является следующий принцип: независимо оттого, гомосексуалист ты или нет, твои личные дела, твоя сексуальная жизнь не являются предметом всеобщего достояния и барабанного боя. Меня совершенно выводит из себя, когда, например, литературоведы посвящают свою жизнь доказательству того, что Альбертина у Пруста - на самом-то деле Альберт. Это не литературоведение, а процесс, обратный творчеству. В частности, творчеству исследуемого писателя. Расплетание ткани. Представьте себе! Литератор сплел все это кружево, скрывая некоторый факт. Сокрытие зачастую есть источник творчества. Форма созидания, если угодно. Автор как бы набросил вуаль на лицо. И тот, кто расплетает это кружево, раскрывает всю эту сложную фабрику, занимается делом, прямо противоположным творческому процессу. Если угодно, это сожжение книги; ничуть не лучше. Что касается Одена, то мы знаем, что поедание всякого запретного плода сопряжено с чувством вины. И это продолжающееся чувство вины - как и самое творчество, о чем мы уже говорили - приводит, как это ни парадоксально, к невероятному нравственному развитию индивидуума. Это развитие, приводящее к более высокой степени душевной тонкости. Я думаю, гомосексуалисты зачастую куда более нюансированные психологически существа, нежели гетеросексуалы. Такое встречается очень часто. И когда все это переплетается с таким уникальным лингвистическим даром, как, например, оденовский, - вот тогда вы действительно имеете дело с человеком, реализовавшим все свои возможности - на предмет душевной тонкости. СВ: Вы затронули, в связи с Оденом, важную тему - нужно ли читателю знать о жизни автора? Важна ли эта жизнь? Правда ли, что жизнь и стихи никак не связаны? Начиная с романтической эпохи, между жизнью поэта и его стихами иногда очень трудно провести грань: посмотрите на Байрона, Новалиса или Лермонтова. Разве можно представить себе ценителя пушкинской поэзии, который не знал бы деталей личной жизни Пушкина? Эта жизнь - пушкинское творчество в не меньшей степени, чем "Медный всадник". ИБ: Романтизм повинен в том, что сложилась бредовая ситуация, которую явно бессмысленно обсуждать или анализировать. Конечно, когда мы говорим "романтический герой", то это вовсе не Чайльд Гарольд, не Печорин. На самом деле - это сам поэт. Это Байрон, Лермонтов. Оно, конечно, прекрасно, что они так жили, но ведь чтобы эту традицию поддерживать, требуется масса вещей: на войну пойти, умереть рано, черт знает что еще! Ибо при всем разнообразии жизненных обстоятельств автора, при всей их сложности и так далее, вариации эти куда более ограничены, нежели продукт творчества. У жизни просто меньше вариантов, чем у искусства, ибо материал последнего куда более гибок и неистощим. Нет ничего бездарней, чем рассматривать творчество как результат жизни, тех или иных обстоятельств. Поэт сочиняет из-за языка, а не из-за того, что "она ушла". У материала, которым поэт пользуется, своя собственная история - он, материал, если хотите, и есть история. И она зачастую с личной жизнью совершенно не совпадает, ибо - обогнала ее. Даже совершенно сознательно стремящийся быть реалистичным автор ежеминутно ловит себя, например, на том, что "стоп: это уже было сказано". Биография, повторяю, ни черта не объясняет. СВ: Но не кажется ли вам, что отношение самих поэтов к этой проблеме - по меньшей мере двойственное? Возьмем того же Одена, который тоже часто декларировал, что чтение биографий ничего в понимании данного литератора не проясняет. Он призывал не составлять его, Одена, биографию и уговаривал друзей уничтожить адресованные им письма. Но с другой стороны, этот же Оден, рецензируя английское издание дневников Чайковского, писал, что нет ничего интереснее, чем читать дневник друга. А посмотрите на Одена-эссеиста! С каким явным удовольствием он разбирает биографии великих людей! Он наслаждается, выудив какую-нибудь вполне приватную, но выразительную деталь. И разве это не естественное чувство? ИБ: Вы знаете, почему Оден был против биографий? Я об этом думал; недавно мы толковали об этом с моими американскими студентами. Дело вот в чем: хотя знание биографии поэта само по себе может быть замечательной вещью, особенно для поклонников того или иного таланта, но это знание зачастую вовсе не проясняет содержание стихов. А может и затемнять. Можно повторить обстоятельства: тюрьма, преследование, изгнание. Но результат - в смысле искусства - неповторим. Не один Данте ведь был изгнан из Флоренции. И не один Овидий из Рима. СВ: Извините, но я в этой двойственной позиции Одена вижу только одно: его нежелание... ИБ: Чтобы кто-нибудь копался в моей жизни, да? Да нет, если хотите читать биографии, читайте! Пусть себе пишут, это их дело, десятое. Меня занимает позиция самого литератора. Они все, в общем-то, еще при жизни воспринимают себя в посмертном свете. Все мы начинали с чтения биографий великих людей, все мы думали, что они - это мы. Да? Опасность в том, что в какой-то момент биография и творчество перехлестываются в сознании самого поэта; осуществляется некая самомифологизация. Вот у Одена этого совершенно не было. Другой пример - Чеслав Милош. Недавно он выступал в Нью-Йорке с чтением своих стихов, и кто-то из аудитории задал ему вопрос: "Как, по-вашему, будут развиваться события в Польше?" Милош ответил: "Вы во власти романтического заблуждения. Вы отождествляете поэта с пророком. Но это вещи разные". Конечно, поэт может предсказать нечто, и это сбудется... СВ: Андрей Белый предсказал появление атомной бомбы... ИБ: Заниматься предсказаниями такого рода - не дело поэта. Об этом хорошо говорил Оден: можно написать "завтра пойдет дождь". Есть даже вероятность, что так оно и будет. Но на самом деле поэту просто надо было срифмовать слова "завтра" и "скорбь" (по-английски, как вы знаете, они рифмуются). СВ: С этим можно согласиться. С чем согласиться нельзя, так это со стремлением автора отгородить свою биографию от своего творчества. Другое дело, коли современное творчество было бы анонимным, как в древности. Мы ничего не знаем о личной жизни Гомера. Романтизм сделал подобное невозможным, раз и навсегда. Поэт проживает свою жизнь как одно из самых важных своих произведений. Иногда не различишь, что для читателя важнее: жизнь поэта или его стихи. Парадоксально, но нечто подобное происходит на наших глазах с Оденом. Он просил не писать о нем; в ответ биографии Одена выходят одна за другой. Один критик заметил, что скоро больше читателей будет получать удовольствие от историй об Одене, нежели от его стихов. ИБ: Вероятно, ибо пошло... На самом деле это совершенно естественная, ситуация. И возникла она по одной простой причине: Оден был замечательный афористический мыслитель. Думаю, таких нынче уж нет. И потому мнения, которые Оден высказывал (а зачастую и просто ронял), обладают, на мой взгляд, не меньшей ценностью, чем его поэтическое творчество. СВ: Конечно! Мы приходим к выводу, что жизнь Одена, его облик обладают, очевидно, эстетической ценностью. Оден создал "миф об Одене", в котором весь он: греческий киник со своими глубокими морщинами, алкоголизмом, грязными ногтями... ИБ: Этого я за ним не замечал! СВ: Что ж, это и есть миф. Оставим читателям оденовских биографий "их" Одена... ИБ: Вы знаете, интерес к биографиям - и, в частности, к биографиям поэтов - зиждится на двух обстоятельствах. Во-первых, биография - это последний бастион реализма. Да? В современной прозе мы все время сталкиваемся со сложной техникой: тут и поток сознания, и его разорванность, и так далее. Единственный жанр, в котором обыватель... СВ: Читатель... ИБ: Это синоним... в котором он еще может найти связное повествование от начала до конца - глава первая, вторая, третья - это биография. Во-вторых, в нашем секуляризованном обществе, где церковь утратила всякий авторитет, где к философам почти не прислушиваются, поэт видится как некий вариант пророка. Обывателем... СВ: Читателем... ИБ: ...поэт рассматривается как единственно возможное приближение к святому. Общество навязывает поэту роль святого, которую он играть совершенно не в состоянии. Оден тем и привлекателен, тем и хорош, что он от этой роли все время отбрыкивался. СВ: Но в итоге сыграл ее, как видим, блестяще - быть может, лучше, чем любой из его современников. ИБ: Совершенно верно. Но я думаю, эту роль навязало ему не общество и не читатели, а время. И поэтому не важно, в конце концов, отказывался ли он от этой роли. СВ: С этим я согласен. Время создает из автора персонаж истории, хочет он того или нет. ИБ: Дело обстоит не совсем так. Время уподобляет человека самому себе. Возрождение создало образ деятельного человека, который в дальнейшем был развит Просвещением и эпохой романтизма. И, замечу я, идеал деятельного человека - независимо от рода этой деятельности - чреват дурными последствиями. Потому что за деятельностью приходит идея последовательности, одна из самых губительных. Скажем, последовательный вариант коммунизма или фашизма - это концлагерь. Последовательно проведенная религиозная идея оборачивается догмой. И так далее. Но я-то говорю не о времени в человеческом восприятии, не об исторических периодах. На самом деле я имею в виду время в метафизическом смысле, со своим собственным лицом, собственным развитием. Время к вам поворачивается то той стороной, то этой; перед нами разворачивается материя времени. Одно из самых грандиозных суждений, которые я в своей жизни прочел, я нашел у одного мелкого поэта из Александрии. Он говорит: "Старайся при жизни подражать времени. То есть старайся быть сдержанным, спокойным, избегай крайностей. Не будь особенно красноречивым, стремись к монотонности". И он продолжает: "Но не огорчайся, если тебе это не удастся при жизни. Потому что когда ты умрешь, ты все равно уподобишься времени". Неплохо? Две тысячи лет тому назад! Вот в каком смысле время пытается уподобить человека себе. И вопрос весь в том, понимает ли поэт, литератор - вообще человек - с чем он имеет дело? Одни люди оказываются более восприимчивыми к тому, чего от них хочет время, другие - менее. Вот в чем штука. СВ: Я часто вспоминаю о письме Пушкина, в котором он отвечает князю Вяземскому: тот сокрушался об утрате записок Байрона. Пушкина прорвало: "Толпа жадно читает исповеди, записки, etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок - не так, как вы - иначе". И одновременно Пушкин говорит про поэта: "И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он". Вам не кажется, что здесь налицо то же противоречие, что и в позиции Одена? То есть с одной стороны Пушкин настаивает на том, что поэт всегда, во всех своих житейских проявлениях выше толпы, которая нс смеет совать нос в его жизнь; с другой же стороны, пытается закрепить за поэтом право в быту быть самым ничтожным из ничтожных - "пока не требует поэта к священной жертве Аполлон". За всем этим стоит, как мне кажется, одно: стремление оградить свою частную жизнь от общественного суда, оставаясь при этом лицом публичным. Это невозможно; это нечестно, наконец! ИБ: Это и так, и не так. На самом деле все гораздо интереснее. Почему, если поэт и мерзок, то не так, как все? Да потому, что поэт постоянно имеет дело со временем. Что такое стихотворение, вообще стихотворный размер? Как и любая песнь, это - реорганизованное время. Птичка поет - что это такое? Реорганизация ритма. А откуда ритм? Кто отец - или мать - ритма? Вот. И поэт все время имеет с этим дело! И чем поэт технически более разнообразен, тем более непосредственен его контакт с источником ритма. Да? Хочет он того или не хочет. Если уж мы говорим об Одене, то более разнообразного поэта - в ритмическом отношении - нет. Отсюда естественно, что Оден сам становится более или менее - ну, не знаю, назовите это временем. СВ: Значит, вы считаете, что земное существование поэта очищается благодаря соприкосновению с ритмом, со временем? ИБ: Когда мы произносим слово "очищение", то сразу привносим качественную категорию. На самом деле речь идет не об очищении. Очищение от чего - от жизни, что ли? Сейчас часто употребляется слово "отстранение". Вот это-то и происходит. Отстранение от клише. То есть почему, скажем, Оден такой замечательный поэт? Особенно поздний Оден, которого многие не любят? Потому что он достиг нейтральности звука, нейтральности голоса. Эта нейтральность дорого дается. Она приходит не тогда, когда поэт становится объективным, сухим, сдержанным. Она приходит, когда он сливается со временем. Потому что время - нейтрально. Субстанция жизни - нейтральна. СВ: Представим себе русского любителя поэзии, который стихов Одена никогда не видел. Для того, чтобы фигура Одена стала такому читателю понятнее и ближе, я хотел бы, чтобы вы провели параллель между Оденом и близкими к нему русскими поэтами. ИБ: Это довольно трудно: любая параллель приблизительна... СВ: Условимся, что такая параллель будет не целью, а средством, инструментом. ИБ: Если только как инструмент... Тогда я назвал бы Алексея Константиновича Толстого и позднего Заболоцкого. СВ: Вот неожиданное сближение! А ведь и вправду, Алексей Константинович Толстой был в числе родоначальников русского абсурдизма! ИБ: Да, совершенно верно. Замечательный был господин. Но я напоминаю, что эта параллель - исключительно стилистическая, просто намек на какие-то стилистические особенности. СВ: Почему, говоря об Одене, вы вспоминаете именно позднего Заболоцкого? ИБ: Я думаю, что поздний Заболоцкий куда более значителен, чем ранний. СВ: Я не ожидал такой оценки... ИБ: Тем не менее... Вообще Заболоцкий - фигура недооцененная. Это гениальный поэт. И, конечно, сборник "Столбцы", поэма "Торжество земледелия" - это прекрасно, это интересно. Но если говорить всерьез, это интересно как этап в развитии поэзии. Этап, а не результат. Этот этап невероятно важен, особенно для пишущих. Когда вы такое прочитываете, то понимаете, как надо работать дальше. На самом деле, творчество поэта глупо разделять на этапы, потому что всякое творчество - процесс линейный. Поэтому говорить, что ранний Заболоцкий замечателен, а поздний ровно наоборот - это чушь. Когда я читаю "Торжество земледелия" или "Ладейникова", я понимаю: дальше мне надо бы сделать то или это. Но прежде всего следует посмотреть, что же сделал дальше сам Заболоцкий! И когда я увидел, что сделал поздний Заболоцкий, это потрясло меня куда сильнее, чем "Столбцы". СВ: Чем же вас потрясла "Некрасивая девочка"? ИБ: Почему же именно "Некрасивая девочка"? Вот послушайте: В этой роще березовой, Вдалеке от страданий и бед, Где колеблется розовый Немигающий утренний свет: Вот музыка! Вот дикция! Или другое стихотворение, такого хрестоматийного пошиба - "В очарованье русского пейзажа..." Или более раннее стихотворение: Железный Август в длинных сапогах Стоял вдали с большой тарелкой дичи. И выстрелы гремели на лугах, И в воздухе мелькали тельца птичьи. Посмотрите, как замечательно прорисован задний план! Это дюреровская техника. Я думаю, самые потрясающие русские стихи о лагерях, о лагерном опыте принадлежат перу Заболоцкого. А именно, "Где-то в поле, возле Магадана..." СВ: Да, это очень трогательные стихи. ИБ: Трогательные - не то слово. Там есть строчка, которая побивает все, что можно себе в связи с этой темой представить. Это очень простая фраза: "Вот они и шли в своих бушлатах - два несчастных русских старика". Это потрясающие слова. Это та простота, о которой говорил Борис Пастернак и на которую он - за исключением четырех стихотворений из романа и двух из "Когда разгуляется" - был все-таки неспособен. И посмотрите, как в этом стихотворении Заболоцкого использован опыт тех же "Столбцов", их сюрреалистической поэтики: Вкруг людей посвистывала вьюга, Заметая мерзлые пеньки. И на них, не глядя друг на друга, Замерзая, сели старики. Не глядя друг на друга! Это то, к чему весь модернизм стремится, да никогда не добивается. СВ: Но поздний Заболоцкий, в отличие от раннего, был способен написать - и опубликовать - стихотворение возмутительно слабое. Я подбираю для себя маленькую антологию "Русские стихи о Венеции". И, я думаю, в этой подборке стихи Заболоцкого о Венеции - самые скверные. Их можно было бы в "Правде" напечатать: Венеция во власти американских туристов, контрасты богатства и нищеты. Какая-то стихотворная политинформация... ИБ: Это понятно. Мне лично кажется, что плохие стихи Заболоцкого - это признак его подлинности. Хуже, когда все замечательно. Кстати, я таких случаев и не знаю. Быть может, один Пастернак. СВ: А военные стихи Пастернака? ИБ: Да... Но его спасает дикция. Мандельштам - масса провалов. О Цветаевой и говорить не приходится, особенно по части дурновкусия. Хотя, конечно, наиболее безвкусный крупный русский поэт - это Блок. Да нет, у всех есть провалы, и слава Богу, что есть. Потому что это создает какой-то масштаб. Да и вообще, если поэт развивается, провалы неизбежны. Боязнь провалов сужает возможности поэта. Пример: Т. С. Элиот. Кстати, я заметил, что советские поэты особенно склонны подчиниться тому образу, который им создается. Не ими, а им! Скажем, Борис Слуцкий, которого я всегда считал лучше всех остальных, - какое количество печальных глупостей он наделал и натворил, вписываясь в свой образ мужественного поэта и мужественного политработника. Он, например, утверждал, что любовной лирики мужественный человек писать не должен. И из тех же мужественных соображений исходя, утверждал, что печатает стихи, по его же собственным словам, "первого и тридцать первого сорта". Лучше б он тридцать первого этого сорта вовсе не сочинял! Но, видимо, разносортица эта неизбежна - у большого поэта во всяком случае. И вполне вероятно, что сокрытие ее Слуцкий считал позерством. СВ: Оден в эссе о Стравинском говорит, что именно эволюция отличает большого художника от малого. Взглянув на два стихотворения малого поэта, нельзя сказать - какое из них было написано раньше. То есть, достигнув определенного уровня зрелости, малый художник перестает развиваться. У него больше нет истории. В то время как большой художник, не удовлетворяясь достигнутым, пытается взять новую высоту. И только после его смерти возможно проследить в его творчестве некую последовательность. Более того (добавляет Оден), только в свете последних произведений большого художника можем мы как следует оценить его ранние опусы. ИБ: Господи, конечно же! Совершенно верно! Знаете, как это делали японцы? У них вообще более здоровое отношение к вопросам творческой эволюции. Когда японский художник достигает известности в какой-то манере, он просто меняет манеру, а вместе с ней и имя. У Хокусая, по-моему, было почти тридцать разных периодов. СВ: Хокусай зато и прожил почти сто лет... А что вы думаете о поздних оденовских редакциях своих ранних стихотворений? Во многих случаях они радикально отличаются от первоначальных вариантов. ИБ: Мне чрезвычайно жалко, что Оден этим занялся. Но в конце концов, для нас эти редакции не являются окончательными. Это ревизии, которые так и остались лишь ревизиями. Правда, есть случаи, когда вмешательство Одена приводило к значительному улучшению текста. СВ: Какова была бы ваша текстологическая позиция при издании "академического" Одена? ИБ: Как правило, я предпочитаю его первоначальные варианты. Но разбираться пришлось бы от стихотворения к стихотворению. Поскольку, как я уже сказал, для некоторых из стихов Одена ревизии, в общем, можно считать оправданными. СВ: Как вы относитесь к тем изменениям, которые на склоне лет вносил в свои ранние произведения Пастернак? ИБ: Как правило, эти изменения прискорбны. То, что он этим занялся, заслуживает всяческого сожаления. Почти без исключений. СВ: В свои поздние годы Заболоцкий, как известно, тоже радикально переработал "Столбцы" и другие ранние стихотворения. Вдобавок он самолично составил "окончательный" свод своих опусов. Я вижу, вы отрицательно относитесь к ревизиям у других поэтов. Исправляете ли вы собственные тексты? ИБ: Во-первых, нужно дожить до возраста Пастернака или Заболоцкого. Во-вторых, я просто не в состоянии перечитывать свои стихи. Просто физически терпеть не могу того, что сочинил прежде, и вообще стараюсь к этому не притрагиваться. Просто глаз отталкивается. То есть я даже не в состоянии дочитать стихотворение до конца. Действительно! Есть некоторые стихотворения, которые мне нравятся. Но их я как раз и не перечитываю; у меня какая-то память о том, что они мне нравятся. Я думаю, что за всю свою жизнь я перечитал старые свои стихи менее одного раза. Это, как говорят, его и погубит... Что касается "окончательной" редакции... Не думаю, что я когда-нибудь этим займусь. По одной простой причине: забот у меня и так хватает. Более того, когда видишь, что человек занялся ревизиями своих ранних опусов, всегда думаешь: "не писалось ему в тот момент, что ли?" В ту минуту, когда мне не пишется, я настолько нехорошо себя чувствую, что заниматься саморедактированием - просто не приходит в голову. СВ: Оден был остроумным человеком? ИБ: О, чрезвычайно! Это даже не юмор, а здравый смысл, сконцентрированный в таких точных формулировках, что когда ты их слышишь, это заставляет тебя смеяться. От изумления! Ты вдруг видишь, насколько общепринятая точка зрения не совпадает с реальным положением вещей. Или какую глупость ты сам только что наворотил. СВ: Фрейд часто появляется - так или иначе - в стихах Одена. Вы с ним обсуждали Фрейда? ИБ: Вы знаете, нет. И слава Богу, потому что произошел бы скандал. Как известно, Оден к Фрейду относился с большим воодушевлением, что и понятно. Ведь Оден был рационалистом. Для него фрейдизм был одним из возможных языков. В конце концов, всю человеческую деятельность можно рассматривать как некий язык. Да? Фрейдизм - один из наиболее простых языков. Есть еще язык политики. Или, например, язык денег: по-моему, наиболее внятный, наиболее близкий к метафизике. СВ: То, что вы сказали относительно здравого смысла у Одена, напомнило мне одну вещь. Читая воспоминания об Одене, видишь, как часто к нему приходили - к поэту, к человеку внешне весьма эксцентричному - за житейским советом. Иногда это были люди, вполне далекие от литературы или искусства. ИБ: То же самое, между прочим, происходило с Анной Андреевной Ахматовой. Куда бы она ни приезжала, начиналась так называемая "ахматовка". То есть люди шли косяками... За тем же самым. СВ: Оден переехал в Америку из Англии, когда ему было тридцать два года, стал американским гражданином. Он очень любил Нью-Йорк, да и вообще к Америке относился, мне кажется, с большой нежностью. Вы все-таки считаете Одена английским поэтом? ИБ: Безусловно. Если говорить о фактуре оденовского стиха, она, конечно, английская. Но с Оденом произошла замечательная трансформация: он еще и трансатлантический поэт. Помните, я говорил вам, что разговорный язык Одена был как бы трансатлантический? На самом деле тенденция к трансатлантизму, видимо, заложена в самом английском: это язык наиболее точный и - потому - имперский, как бы обнимающий весь мир. Оден к языку относился чрезвычайно ревностно. Думаю, что не последней из причин, приведшей его сюда, в Штаты, был - реализованный им в результате - лингвистический выигрыш. Он, видимо, заметил, что английский язык американизируется. Заметьте - в предвоенные и военные годы Оден усиленно осваивает, запихивает в свои стихи американские идиомы. СВ: Не странно ли, что Оден при этом постоянно выступал против коррупции языка? ИБ: Не все американизмы разлагают язык. Ровно наоборот. Американизмы могут быть немного вульгарны, но они, я считаю, очень выразительны. А ведь поэта всегда интересует наиболее емкая форма выразительности. Да? Для Одена, родившегося в Йорке и воспитанного в Оксфорде, Америка была подлинным сафари. Он действительно, как говорила Ахматова, брал налево и направо: из архаики, из словаря, из профессиональной идиоматики, из шуточек ассимилировавшихся национальных меньшинств, из шлягеров и тому подобных вещей. СВ: Вам не кажется, что такому языковому раскрепощению способствовала более вольная атмосфера богемного Гринвич-Виллиджа, где Оден поселился? ИБ: Я не знаю. Наверное, можно и так сказать. В начале-то был Бруклин. СВ: Когда Оден в конце жизни уехал из Нью-Йорка и вернулся в Оксфорд, он - вероятно, неожиданно для себя - увидел, что Оксфорд совершенно не пригоден для существования. Вы не находите в этом иронии? ИБ: Отчасти, да. Оден тосковал по Нью-Йорку чрезвычайно сильно. На круги своя возвращаешься не в том виде, в каком их покинул. У Экклезиаста про это, увы, ничего нет. СВ: Он брюзжал. Брюзжание - старческая форма выражения тоски. Он устал от жизни. ИБ: Может быть, вы и правы. Я могу сказать вот что. Когда человек меняет свое местожительство, он, как правило, руководствуется не абстрактными соображениями, а чем-то чрезвычайно конкретным. Когда Оден с Кристофером Ишервудом перебрались в Штаты, на то была вполне конкретная причина. В свою очередь, я хорошо помню резоны, которые Оден выдвигал для обоснования своего возвращения в Оксфорд. Оден говорил, что он человек пожилой. И, хотя он абсолютно, идеально здоров - что было в сильной степени преувеличением - тем не менее ему нужен уход. В Оксфорде Одену была предоставлена прислуга. Он жил в коттедже XV века - переоборудованном, конечно. Разумеется, жизнь Одена в Оксфорде была другой - совершенно иной ритм, иное окружение. И действительно, Одену в Оксфорде было скучно. Но картина была грустной не только поэтому. Грустно было видеть, как с Оденом обращались его оксфордские коллеги. Я помню, мы с Оденом пошли на ланч в Месс-холл. И не то чтобы Одена его коллеги третировали, но им было совершенно на него наплевать - знаете, когда тебя оттирают от миски, от стола... Это такая английская феня: дескать, у нас академическое равенство. Но на самом-то деле - какое же это равенство? Есть люди гениальные, а есть - просто. И профессиональные академики это должны бы понимать. Думаю, они это так или иначе понимают. Так что на самом-то деле - это подлинная невоспитанность, подлинное неуважение. Ну это неважно... СВ: Что думает об Одене американская молодежь? Например, ваши студенты? ИБ: Как правило, американские студенты Одена не знают. Так, по крайней мере, дело обстоит сегодня. Либо у них о нем самые общие представления, навязанные доминирующими кликами или тенденциями. Дело в том, что Оден оказал невероятное влияние на современную американскую поэзию. Вся так называемая "исповедальная" школа вышла из него, они все - прямое следствие Одена, его дети в духовном смысле, а зачастую даже и в чисто техническом. Но никто этого не знает! И когда ты показываешь студентам - кто же отец их нынешних кумиров, а затем - кто отец Одена, то ты просто открываешь им сокровища. Когда я сюда, в Штаты, приехал, то поначалу у меня нервы расходились сильно. Я думал: в конце концов - кто я такой, как это я буду говорить американцам об ихней же литературе? Ощущение было, что я узурпирую чье-то место. Потому что приехал-то я с представлением, будто здесь все все знают. И, в лучшем случае, я смогу им указать на какой-то странный нюанс, который мне, как человеку из России, открылся. То есть предложить как бы славянскую перспективу на англоязычную литературу. Да? Я думал, что мой взгляд, мой угол зрения может дать хотя бы боковую подсветку предмета. Но столкнулся я совсем с иной ситуацией. Говорю это не хвастовства ради, а ради наблюдения как такового: выяснилось, что я знаю об американской литературе и, в частности, об американской поэзии ничуть не меньше, чем большинство американских профессоров. Видите ли, мое знание этого предмета - качественно иное. Оно скорее активное: знание человека, которому все эти тексты дороги. Дороже, пожалуй, чем большинству из них. Поскольку моя жизнь - не говоря уже о мироощущении - была этими текстами изменена. А с таким подходом к литературе американские студенты, как правило, не сталкиваются. В лучшем случае, им преподносят того же Одена в рамках общего курса английской поэзии XX века, когда поэт привлекается в качестве иллюстрации к какому-нибудь "изму". А не наоборот, да? И это, в общем, чрезвычайно трагично. Но такова - по необходимости - всякая академическая система. Впрочем, достоинство местной академической системы в том, что она достаточно гибка, чтобы включить в себя также и внеакадемическую перспективу. Когда преподавателем становится не академик, а человек вроде Одена, Лоуэлла или Фроста. Даже, простите, вроде вашего покорного слуги. То есть человек, который поэзией занимается, а не варит из нее суп. Да? Когда преподаватель - персонаж из хаоса... СВ: Вы много занимались английскими поэтами-метафизиками: Джоном Донном "со товарищи". Каково было отношение к ним Одена? Что, по-вашему, дали метафизики новой англоязычной поэзии? ИБ: Мы с Оденом про это много не говорили - не успели. Да мне и в голову бы не пришло спрашивать, ибо совершенно очевидно, что Оден - плоть от ихней плоти. Это как спрашивать человека, как он относится к своим клеткам... Что дали метафизики новой поэзии? В сущности, все. Поэзия есть искусство метафизическое по определению, ибо самый материал ее - язык - метафизичен. Разница между метафизиками и неметафизиками в поэзии - это разница между теми, кто понимает, что такое язык (и откуда у языка, так сказать, ноги растут) - и теми, кто не очень про это догадывается. Первые, грубо говоря, интересуются источником языка. И, таким образом, источником всего. Вторые - просто щебечут. СВ: Не слишком ли сильно сказано? ИБ: Конечно, конечно - в этом щебете тоже проскальзывает масса интересного. Ведь метафизичны не только слова как таковые. Или мысли и ощущения, ими обозначенные. Паузы, цезуры тоже метафизичны, ибо они также являются формами времени. Я уже говорил, кажется, что речь - и даже щебет - есть не что иное, как форма реорганизации времени... СВ: Английские поэты-метафизики стали сравнительно недавним открытием для русского читателя. В чем их своеобразие, "особость"? ИБ: Поэтическую тенденцию, предшествовавшую метафизикам, можно было бы назвать, грубо говоря, традиционно-куртуазной. Стихи были не особенно перегружены содержанием; все это восходило к итальянскому сладкозвучию, всем этим романам о Розе и т.п. Я сильно упрощаю, естественно, но можно сказать, что метафизическая школа создала поэтику, главным двигателем которой было развитие мысли, тезиса, содержания. В то время как их предшественников более интересовала чистая - в лучшем случае, слегка засоренная мыслью - пластика. В общем, похоже на реакцию, имевшую место в России в начале нашего века, когда символисты довели до полного абсурда, до инфляции сладкозвучие поэзии конца XIX века. СВ: Вы имеете в виду призыв "преодолевших символизм" акмеистов к "прекрасной ясности"? ИБ: И акмеистов, и ранних футуристов, и молодого Пастернака... Что же касается английских метафизиков, то они явились как результат Ренессанса, который (в отличие от весьма распространенной точки зрения) был временем колоссального духовного разброда, неуверенности, полной компрометации или утраты идеалов. СВ: Характеристика эпохи звучит до боли знакомо... ИБ: Да, похоже на атмосферу в Европе после Первой мировой войны. Только в период Ренессанса дестабилизирующим фактором была не война, а научные открытия; все пошатнулось, вера - в особенности. Метафизическая поэзия - зеркало этого разброда. Вот почему поэты нашего столетия, люди с опытом войны - нашли метафизическую школу столь им созвучной. Коротко говоря, метафизики дали английской поэзии идею бесконечности, сильно перекрывающую бесконечность в ее религиозной версии. Они, быть может, первые поняли, что диссонанс есть не конец искусства, а ровно наоборот - тот момент, когда оно, искусство, только-только всерьез и начинается. Это - на уровне идей. СВ: А в смысле стихотворного ремесла? ИБ: О, это был колоссальный качественный взрыв, большой скачок! Невероятное разнообразие строфики, головокружительная метафорика. Все это надолго определило стилистическую независимость английской поэзии от континентальных стиховых структур. Посмотрите хотя бы на техническую сторону творчества Одена. Вы увидите, что в этом столетии не было - за исключением, пожалуй, Томаса Харди - поэта более разнообразного. У Одена вы найдете и сафическую строфу, и анакреонтический стих, и силлабику (совершенно феноменальную - как в "Море и зеркале" или в "Хвале известняку"), и сикстины, и вилланели, и рондо, и горацианскую оду. Формально - Оден просто результат того, что мы считаем нашей цивилизацией. По сути же он - последнее усилие ее одушевить. СВ: В томе советской литературной энциклопедии издания 1967 года об английской "метафизической школе" говорится, что она "порывает с реалистическими и гуманистическими традициями ренессансной лирики"; на советском литжаргоне это означает неодобрение. С другой стороны, в проспекте "Литературных памятников", изданном в Москве в том же 1967 году, поэты-метафизики были охарактеризованы с большим почтением. Этот проспект объявлял о подготовке к изданию тома "Поэзия английского барокко" в вашем переводе и с комментариями академика Жирмунского. Как этот том затевался? ИБ: Вполне банальным образом: в 1964 году мне попался в руки Джон Донн, а затем и все остальные: Херберт, Крашоу, Воган. И я начал их переводить. Сначала для себя и корешей, а затем для какой-нибудь возможной публикации - в будущем. СВ: Почему Донн привлек ваше внимание? ИБ: Увлечение Донном началось - как, по-моему, у всех в России - с этой знаменитой цитаты из хемингуэевского "По ком звонит колокол": "Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если Волной снесет в море береговой Утес, меньше станет Европа, и также, если смоет край Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе". На меня этот эпиграф произвел довольно большое впечатление, и я попытался разыскать эту цитату из Донна в оригинале (хотя и не очень знал английский об эту пору). Кто-то из иностранных студентов-стажеров, учившихся в Ленинграде, принес мне книжечку Донна. Я всю ее перебрал, но искомой цитаты так и не нашел. Только позднее до меня дошло, что Хэмингуэй использовал не стихотворение Донна, а отрывок из его проповеди, в некотором роде стихотворный подстрочник. Но к этому времени заниматься Донном было уже довольно поздно, потому что меня посадили. Потом, когда я уже был на поселении, Лидия Корнеевна Чуковская прислала мне - видимо, из библиотеки своего отца - книгу Донна в издании "Современной библиотеки". И вот тут-то, в деревне, я принялся потихонечку Донна переводить. И занимался этим в свое удовольствие на протяжении полутора-двух лет. Через Анну Андреевну Ахматову я познакомился с Виктором Максимовичем Жирмунским. Он, видимо, читал мои переводы и предложил идею тома для "Литпамятников". Идея эта чрезвычайно мне понравилась, но, к сожалению, работу над переводами я продолжал с непростительными перерывами: надо было зарабатывать на жизнь, да еще надо было что-то свое сочинять. В 1971 году Жирмунский умер, но с его смертью идея издания не заглохла. Меня вызвали в Москву, в издательство "Наука", где сказали, что договоренность остается в силе. К этому времени переводов у меня было все еще недостаточно. Следовательно, выпуск тома передвигался года на два. Но наступило 10 мая 1972 года, и ни о какой книжке не могло уже быть и речи. Жаль. Там был бы не только Донн. Планировалась антология метафизической поэзии, вся эта банда. Параллельно со мной переводом Донна занимался Борис Томашевский... СВ: Который в итоге и выпустил русскую книжку Донна... ИБ: Да, я просмотрел ее. Потому что читать ее, зная Донна в оригинале, невозможно. Переводы - на уровне "любовь коварная и злая"... Расположения к этому переводчику у меня нет никакого, потому что позволить себе такое действо - это, конечно, полный моветон. СВ: Кроме Донна и других "метафизиков", кого еще из англоязычных поэтов вы переводили? ИБ: Самых разнообразных авторов. Например, Фроста, Дилана Томаса, Лоуэлла. Переводил "Квартеты" Элиота; но это вышло довольно посредственно, слишком много отсебятины. Пытался переводить Одена, что труднее всего, на мой взгляд. Вообще, я ведь переводил со всех существующих и несуществующих языков: с чешского, польского, арабского. Переводил с хинди. СВ: Помните, мы говорили об интересе Одена к стихотворным текстам из области "легкого" жанра? Я знаю, что ему нравилось литературное творчество Джона Леннона. А как вы относитесь к поэзии группы "Битлз"? Вы ведь, кажется, перевели их "Желтую подлодку"? ИБ: Да, по просьбе ленинградского журнала "Костер". Вообще-то я всерьез отношусь к этим делам. По-английски это может быть очень интересно. А тексты, написанные Джоном Ленноном и Полом Маккартни, совершенно замечательные. Вообще, лучшие образцы английского и американского легкого жанра - не такой уж и легкий жанр. В известной степени это пугающий жанр. Например, Ноэл Коуард. Или гениальный Коул Портер. А блюзы! Но переводить все это чрезвычайно трудно: надо знать традиции блюза, традиции английской баллады. В России никто не знает, что такое английская баллада. Или, тем более, баллада шотландская. СВ: А переводы Жуковского? ИБ: Попробуйте соединить Жуковского и поэзию "Битлз"! Все это довольно грустно, потому что русская культурная традиция ориентирована в основном на французскую и немецкую литературы. Которые по сравнению с тем, что происходило об ту же самую пору в английской литературе, абсолютный детский сад. Помните, мы говорили о несчастной судьбе антологии Гутнера? Переводы там были не такие уж и блестящие, но дух английской изящной словесности эта антология все-таки передавала. Было бы хорошо ее переиздать. Но я не знаю, кто этим будет заниматься.
Глава 7. У.Х. Оден: осень 1978 - весна 1983
Источник: http://www.lib.ru/BRODSKIJ/wolkow.txt
Николай Лавров
Переводя Бродского
"Я пил из этого фонтана
в ущелье Рима"Не скрою, я испытываю некоторую неловкость, вставая в уровень с Иосифом Бродским, но иначе невозможно свободно говорить о Поэте: во-первых, хотя бы на правах современника: его жизнь - моя юность, во-вторых, как мне кажется, у меня появилось некое скромное право говорить о нем (я подчеркнул бы именно "скромное", так как, повторюсь, рядом с Ним быть неловко, но иначе мне не сказать того, что хочу).
Первую репетицию спектакля "Мрамор", на которой оговаривалось, что бы мы хотели сказать, почему именно теперь и что же за явление такое - Бродский, Григорий Дитятковский закончил чтением наизусть именно этого стихотворения, и прочел он его поистине сильно. Я помню, как нас с Сережей Дрейденом буквально просквозила щемящая боль, пронизывающая это произведение. Именно тогда я понял, что борьба за "Мрамор" будет очень и очень серьезной (это потом мы и хлебнули сполна). Я попросил Гришу дать мне экземпляр "Пьяцца Маттйи", чтобы в дальнейшем включить в свой репертуар, и уже имея на руках стихотворение, пытался в компаниях произвести подобное впечатление на друзей. Мне тогда казалось, что достаточно прочитать это с листа - и успех обеспечен. Как же я был удивлен, когда напоролся на непонимание и даже некоторое недоумение - дескать, ну да, Бродский, но это что-то эпатажно-надуманное и т. д.
Я задумался над причинами своего неуспеха и понял, что Гриша, когда читал нам, был к этому готов. Он проделал ту внутреннюю работу, которую проделал сам Бродский, - мысли Бродского, его чувства, его видения стали собственными и личными для Гриши Дитятковского, он как бы отождествил Бродского с собой - мне же все это предстояло сделать. Бродский - как серьезная музыка, которая сразу может и не уложиться - ее надо усвоить, проникнуться ею и, я бы сказал, "перевести", а уж переведя для себя, поймешь, что, пожалуй, лучше, чем сказал Бродский, не скажешь.
Я пил из этого фонтана
в ущелье Рима.Гриша как-то на репетиции, когда я прочел эти две строчки, удивившись, спросил: мол, ты уверен, что "в ущелье", а не "в предместье"? Не было под рукой стихотворения, чтобы проверить, и на следующей репетиции Гриша признал: "Надо же, а я как-то это промахнул - именно "в ущелье" - мало кому такое в голову придет". Но тут еще, вероятно, надо учесть отголоски состояния души автора в тот момент - но об этом дальше:
Теперь, не замочив кафтана,
канаю мимо.Что за юношеский сленг? Я помню классе в 9-м или 10-м (начало 60-х) мы часто им пользовались. Типа: "не трожь кафтан, канай отседа". Что же вынудило серьезного человека пойти на такой школьно-блатной язык? Смотрим дальше:
Моя подружка Микелина
в порядке штрафа
мне предпочла кормить павлина
в именье графа.Что-то такое прозревается: какая-то подружка, штраф, какой-то граф. Треугольник, что ли? Видимо, эта Микелина затащила Бродского (тогда еще малоизвестного, особенно, думаю, в Риме и далеко еще не нобелевского лауреата) к какому-то модному и, уж наверное, богатому графу - один павлин дорисовывает воображение, оставляет его любоваться этим павлином, а сама, как мне видится, удаляется с графом в его апартаменты. Ситуация, конечно, довольно банальная, но не для Бродского. Думаю, для него эта Микелина не была пустым звуком, думаю, тут со стороны Бродского к этой "подружке" возникали какие-то чувства, и не исключено, что сильные, - иначе вряд ли появилось бы на свет это произведение.
Граф, в сущности, совсем не мерзок:
он сед и строен.
Я был с ним по-российски дерзок,
он был расстроен.Представляю, что значит, по Бродскому, быть по-российски дерзким, с его "кафтаном" и "канаю", да еще начитавшись и наслушавшись о нем различных баек. Думаю, тут было чем расстроиться вряд ли что понимавшему графу.
Но что трагедия, измена
для славянина,
то ерунда для джентльмена
и дворянина."Трагедия, измена..." Конечно, это некоторая аллегоричность, как бы обобщенность, и Бродский говорит об этом, я бы сказал, с некоторым ерничаньем, но за всем этим ерничаньем, безусловно, чувствуется человеческая задетость. И дело не в рангах или породе, мне кажется, что острие боли скрыто все-таки в той самой Микелине.
Граф выиграл, до клубнички лаком,
(в смысле "любящий сладкие лакомства", понятно, какие имеет здесь в виду автор)
в игре без правил.
Он ставит Микелину раком,
как прежде ставил.Вот эти строчки, помню, при чтении (моем) на какой-никакой публике вызывали главное неприятие у многих: дескать, ну ладно, ну ты, мол, талантлив, но зачем такой эпатаж и фрондерство? Но ведь я же говорил - тогда я читал еще мало чего понимая и связывая. И вот, наконец, почти по-детски:
Я тоже, впрочем, не в накладе:
и в Риме тоже
теперь есть место крикнуть "Бляди!",
вздохнуть: "О Боже".Интересный диапазон. Когда мы с Малой драмой готовились к гастролям в Риме, я вспоминаю, каким представлялся мне этот "Вечный город" - соборы, Тибр, Колизей и памятники, памятники, памятники... Асфальт и камни. И какое было удивление, что в Риме можно было спуститься по тенистой тропинке к центру города, что он бывает почти домашним и не таким официозным, как представлялся, что на одного нашего актера, любившего снимать на видео и фотографировать, буквально у Колизея налетела ватага мальчишек - одна группка вырвала камеру, другая - фотоаппарат, третья - сумку, все - в разные стороны, и неизвестно, чем бы это все кончилось, не подоспей на помощь какие-то английские туристы. Конечно, всякое сравнение страдает, тем не менее, тут есть аналогия с Бродским - известно по тому же "Мрамору", что такое Рим для поэта: нечто гармоничное и справедливое - и вдруг такая личностная заноза - Микелина - "И в Риме тоже..."
Вот, по сути, кажется, и вся история (кто из нас этого не испытал?), можно было бы и закончить это стихотворение, однако:
Не смешивает пахарь с пашней
плодов плачевных.
Потери, точно скот домашний,
блюдет кочевник.Однажды на репетиции, когда я прочел эти строки (я часто разбавлял ход репетиций строфами этого стихотворения), Гриша спросил, как я их понимаю. Я ответил: "А просто мудреем..." Мне сейчас действительно кажется, что без потерь не помудреть.
Чем был бы Рим иначе? гидом,
толпой музея,
автобусом, отелем, видом
Терм, Колизея.Интересно, что вопрос стоит вначале, а далее идет точное утверждение. И тут он блестяще, в шести понятиях, передал всю индустрию туристического бизнеса. И вдруг, словно из пекла в прохладу:
А так он - место грусти(!), выи,
склоненной в баре,
и двери, запертой на виа
дельи Фунари.Очевидно, это облюбованное место на улице Фунари. Интересная деталь - "двери запертой" - видимо, поэт был вхож и при запертых дверях.
Сидишь, обдумывая строчку,
и, пригорюнясь,
глядишь в невидимую точку:
почти что юность.Эти строчки мне особенно нравятся, и не только потому, что здесь найдена блестящая рифма: "пригорюнясь" и "юность", может быть, не шибко твердая, но потрясающая неожиданностью. А еще и потому, что мы видим здесь героя, как мне кажется, каким-то "домашним", я бы сказал почти ребенком, и здесь он вызывает у меня человеческое сочувствие. И вдруг, как-будто испугавшись минутной слабости, он выходит на новый виток:
Как возвышает это дело!
Как в миг печали
все забываешь: юбку, тело,
где, как кончали.
Пусть ты последняя рванина,
пыль под забором,
на джентльмена, дворянина
кладешь с прибором.Это как последние всхлипывания ребенка после бурного плача, когда уже обнаружился новый интересный объект, но нужно еще распроститься со старым, и распроститься, конечно, надо по максимуму, с известной долей бравады:
Нет, я вам доложу, утрата,
завал, непруха
из вас творят аристократа
хотя бы духа.
Забудем о дешевом графе!
Заломим брови!
Поддать мы в миг печали вправе
хоть с принцем крови!Вот интересно, казалось бы, все сказано и можно подвести черту и закончить стихотворение, а уж потом начать следующее, которое нам еще предстоит услышать. Казалось бы, "по схеме" и по теме поэт написал два разных стихотворения, однако это только "казалось бы".
И тут, мне кажется, пора копнуть один из самых важных пластов Бродского этого периода. 1981 год. Душа поэта еще в "пограничном", если можно так выразиться, состоянии. Он уже не "русский", но еще далеко не "американец". Еще не изжиты ни позорище суда, ни ссылка и, наконец, высылка, все страшно оголено, и он долго, как мы знаем, находится в самочувствии изгоя и "пасынка", как он дальше скажет, и многого, конечно, простить не сможет. Он даже как-то признался, что когда уже в более поздние времена его приглашали в Питер (он был тогда, вроде, в Финляндии), он отказался, сказав, что боится, что при подъезде к Комарово у него разорвется сердце - тут и Ахматова, и друзья, и "Васильевский остров"... "Дважды в одну струю не ступишь..." - говорит он в "Мраморе" устами Публия. И понятно, что в этом состоянии, пусть даже такой частный, личный факт с Микеленой и пресловутым графом мог взорваться, как искра в каком-нибудь загазованном помещении. Отсюда и некоторая бравада, и колющий обывательское ухо слог. (А по-моему, это и есть свобода высказывания.)
Зима. Звенит хрусталь фонтана.Для северянина это, конечно, парадоксально. Обычно мы привыкли, что если уж "зима", то "лошадка снег почуя", или замерзающий ямщик, или "мчатся тучи", или, в лучшем случае, "мороз и солнце!", а тут вдруг "звенит хрусталь фонтана" (кстати, звенит он все-таки оттого, что на лету превращается в льдинки). Но это все не просто пейзаж или описание, это, как мне кажется, набор признаков проходящего кризиса. Душа начинает оттаивать.
Цвет неба - синий.
Подсчитывает трамонтана
(видимо, это ветер в Италии)
иголки пиний.Пиния - южная сосна, похожая на наш кедр, но Бродский уже сосной ее не назовет. Кстати, к пинии у него, видимо, особое расположение - в том же "Мраморе" у Публия есть очень схожая фраза: "... горы синеют, Тибр извивается, пинии шумят - каждую иголочку видно".
Что год от февраля отрезал,
он дрожью роздал,Представьте себе круглый пирог или торт, разделенный на двенадцать сегментов: январь, февраль и т. д.
и кутается в тогу цезарь
(верней, апостол).Это частая его полуоговорка, полуприкол. О цезарях (о царях, королях, генсеках или президентах - это все цезари) поэт много сказал в своем творчестве. Интересно, что он с ними не расправлялся, не изобличал, по-моему, даже считал, что они нужны, иногда, правда, подставлял рядом (в том же "Мраморе") поэта, и сразу становилось ясно who is who.
В морозном воздухе, на редкость
прозрачном, око,
невольно наводясь на резкость,
глядит далёко -
на Север, где в чаду и в дыме
кует червонцы
Европа мрачная. Я - в Риме,
где светит солнце!И это тоже признак оттаивания души.
Вообще для Бродского Рим - это не просто "вечный город", это целый мир, будоражащий его воображение. Я помню в детстве, играя с игрушечными солдатиками, которых было не ахти как много, но тогда в ход шли и пустые катушки от ниток, и спичечные коробки, и даже пуговицы, я, как полководец, командовал своей армией. Я давал каждому имена, спорил с ними, отстаивал свои позиции, даже, помню, кого-то сажал в карцер - это был мой мир, и я был в нем полноценен и счастлив. Что-то подобное, мне кажется, происходило и с Бродским, когда речь касалась Рима. Не сегодняшнего, конечно, а той ИМПЕРИИ, того Рима, который "правит миром" и который - "мир вскормивший".
Есть в нем (Бродском) некая ностальгия по тому Риму, и видно, как дороги ему развалины и осколки той эпохи, так много ему говорящие. Мне кажется даже (шучу, конечно), он жалел, что "с умом и талантом" родился не в древнем Риме.
Я, пасынок державы дикой
с разбитой мордой,
(лучше не скажешь)
другой, не менее великой,
приемыш гордый, -
я счастлив в этой колыбели
Муз, Права, Граций,
где Назо и Вергилий пели,
вещал Гораций.Да, Гораций, конечно, занимал у Бродского особое положение, недаром в "Мраморе" ему отведено так много места, и потому интересно, скажем, что Назо и Вергилий "пели", а Гораций "вещал", т.е., очевидно, высказывал "вещие" мысли. Бродский прекрасно знал всю древнеримскую поэзию, и иногда создается впечатление, что он с поэтами (теми) как бы на равных, он с ними (как в том детском примере с солдатиками) беседует, спорит, соглашается, иногда даже посмеивается над ними. В этом плане исключительно интересна сцена в "Мраморе", где Туллий, прежде чем бежать из Башни, скинув в шахту лифта бюсты поэтов, беседует с ними - это даже не монолог, я бы сказал, это диалог с бюстами (Сережа Дрейден делает это замечательно), и тут мы узнаем самого Иосифа Бродского, где он с поэтами, как с современниками, абсолютно на "одной ноге" и, не стесняясь, причисляет себя к их сонму. Мне, впрочем, симпатична такая степень его самосознания.
Попробуем же отстраниться
взять век в кавычки.
(то есть, сравняться, не учитывать время)
Быть может, и в мои страницы,
как в их таблички,
(ну да, они же писали на табличках)
кириллицею не побрезгав
и без ущерба
для зренья, главная из Резвых
взглянет - Эвтерпа.Я боюсь судить и, может, ошибаюсь, но, мне кажется, у Бродского был такой пунктик - стеснение перед Западом за свою "кириллицу" (т.е. славянскую письменность), особенно теперь, когда он становится "гражданином мира"; недаром он очень быстро овладевает английским (в какой-то из своих статей восхищается им) и под конец жизни переходит в основном на прозу, которую пишет на английском языке. Но тут есть еще одна мысль - обратите внимание: "главная из Резвых... " По-видимому, он всех богинь искусств: Мельпомену, Терпсихору и т. д. (сколько их, девять что-ли?) - называет Резвыми, но самая "резвая" из них, по Бродскому, понятно, Эвтерпа - богиня поэзии. И разве не назовешь это стихотворение "резвым" от начала и, как мы увидим, до конца - и по замыслу, и по игре ума, и по некоторому хулиганству даже?
Не в драчке, я считаю, счастье
в чертоге царском,
но в том, чтоб, обручив запястье
с котлом швейцарским,
остаток плоти терракоте
подвергнуть, сини,
исколотой Буонарроти
и Борромини.Я специально не прерывал эту строфу, надеясь вызвать у вас некоторое раздражение от непонимания, которое, признаюсь, испытал при первом прочтении. Ну, ладно, могу понять, что счастье не в разборе лакомых кусков (мест) где-то в высокопоставленных инстанциях, даже понимаю, что такое - "обручив запястье с котлом швейцарским (котлы - это по той же "школьной бене" - часы, красиво, конечно, хотя не всем понятно...), но дальнейшие строчки меня пугали пустой вычурностью и выпендрежем, пока я не удосужился полезть за словарем (СЭС) и не раскрыть его на БА... БИ... БО... БУ... Буонарроти, а там всего два слова: "см. Микеланджело"... Расписавшись в своей серости (лучше поздно, чем...), я открываю для себя, что Микеланджело Буонарроти и Франческо Борромини - великие архитекторы Возрождения, которые шпилями соборов, построенными ими, раскололи итальянское небо. Ну разве это не высота? (И не резвость?) "Остаток плоти терракоте (какая рифмическая атака!) подвергнуть", а короче подвергнуть вечности: терракота - цвет Рима (для Бродского), цвет вечности.
И вот тут выявляется одна из главных особенностей поэзии Бродского: он не стремится быть легко понимаемым, не пытается объяснять даже новые слова, типа "виа дельи Фунари", "трамонтана", а скоро прочтем "чоколатта кон панна" и прочие слова и понятия - он оставляет право перевода читателю, он как бы говорит: "заинтересуетесь - докопаетесь". И в этом его независимость, его свобода. Как, опять же, извините, в "Мраморе":
Публий. ... того и гляди, стихи примешься сочинять. Удивительно, Туллий, что ты еще не пробовал.
Туллий. Я пробовал, не далее, чем вчера.
Публий. Ну?
Туллий. Вид, открывающийся из окна девять восемьдесят одна.
Публий. Девять восемьдесят одна? Что это такое? Что это - девять восемьдесят одна?
Туллий. Формула свободного падения...Вроде может вначале показаться пустым набором слов, а на самом деле, формула самоубийства.
Спасибо, Парки, Провиденье,
ты, друг-издатель,
за перечисленные деньги.Все в одну кучу: Парки (богини судьбы), Провиденье и тут же друг-издатель. Весь этот букет говорит о том, что Душа воспревает, обретает полную свободу...
Сего податель
векам грядущим в назиданье
(он уже начинает пугать!)
пьет чоколатта
кон панна в центре мирозданья
и циферблата!А где же еще, как не в центре? В центре им же построенного РИМа, МИРа (только сейчас заметил, что если читать наоборот, мы будем перечислять эти понятия). А "чоколатта кон панна", по-моему, это шоколад (горячий) с молоком или со сливками. Заметьте, не виски, джин или водка!
С холма, где говорил октавой
порой иною
Тасс,Не знаю, легенда это или нет, но Tasso, поэт среденевековья, обладал таким голосом, что мог с холма на огромное расстояние читать толпе, скопившейся внизу, свои стихи. Так вот с этого холма:
созерцаю величавый
вид. Предо мною -
не купола, не черепица
со Св. Отцами:А это что такое: "Со Св. Отцами"? Прямо как в Сов. Энц. словаре: "см. Микеланджело". Он что, не смог без сокращения? Ну разве это не хулиганство? Не будем навешивать на поэта, назовем это "резвостью".
то - мир вскормившая волчица
спит вверх сосцами!А у меня перед глазами стоит силуэт Петропавловки, со шпилями, башенками, равелинами.
И в логове ее я - дома!Да! Он уже преодолел силу земного притяжения.
Мой рот оскален
от радости:
(господи, какие тут теперь графы и Микелины?!)
ему знакома
судьба развалин.
Огрызок цезаря,
(опять цезаря)
атлета,
певца тем паче
есть вариант автопортрета.Я знаю одну женщину - она работала гримером на телестудии, так вот она рассказывала мне, как в прошлой (или позапрошлой) жизни, она это точно помнит, она танцевала в балете в Париже. Причем приводила такие тонкости и подробности, что я до сих пор склонен в это верить. Бог его знает, а не был ли наш Иосиф Александрович в какой-нибудь из своих прошлых жизней там, куда его все время тянет?
Скажу иначе:
усталый раб - из той породы,
что зрим все чаще, -
(конечно, талантливые и неугодные неуступчивостью своего мнения (цезарям) рабы "зримы все чаще")
под занавес глотнул свободы.
(так вот все-таки о чем все время шел разговор)
Она послаще
любви, привязанности, веры
(креста, овала),Это скобки автора, не мои, а овал в данном случае - полумесяц, символ мусульманской веры.
поскольку и до нашей эры
существовала.
Ей свойственно, к тому ж, упрямство.
Покуда Время
не поглупеет, как Пространство
(что вряд ли),Скобки, опять же автора. Тема Времени и Пространства - это то, что, по-моему, неотступно занимало Бродского всю жизнь: в двух словах можно сказать, что для него (и для меня с годами стало тоже) Время - неизученный феномен, созвучный с Вечностью, а Пространство в общем-то, понятно, оно имеет границы, конец, и потому оно, как считает Бродский, глупо. Впрочем, об этом лучше прочесть, а еще лучше посмотреть спектакль "Мрамор", которым, я уже чувствую, плешь проел.
семя
свободы в злом чертополохе,
в любом пейзаже
даст из удушливой эпохи
побег.И это он доказал своей жизнью. Он и есть один из тех немногих, давших "побег" из "удушливой эпохи" - побег в Свободу, свободу живой мысли, свободу слова - поступка, свободу Собственного (с большой буквы) Мнения (с большой буквы).
И даже
сорвись все звезды с небосвода,
исчезни местность,
все ж не оставлена свобода,
чья дочь - словесность.
Она, пока есть в горле влага,
не без приюта.
Скрипи, перо. Черней, бумага.
Лети, минута.
Февраль 1981 г.
P.S.
Публий. Вот что интересно с поэтами, после них разговаривать не хочется.
Туллий. Херню пороть, ты хочешь сказать?
Публий. Да нет, вообще разговаривать.
Туллий. Самого себя становится стыдно?
Публий. Примерно. Голоса, тела и так далее.
Июль 1999 г.
Источник: http://www.theatre.ru/ptzh_archives/1999/18-19/094.html

Поэт, филолог (наст. фамилия Лифшиц). Родился в 1937 г. Окончил филологический факультет Ленинградского университета, работал в детском журнале "Костер", публиковал стихи для детей. С 1976 г. в США (ныне – штат Вермонт), занимается преимущественно литературоведением (диссертация "Эзопов язык в современной русской литературе", редактор-составитель сборника "Поэтика Иосифа Бродского"). Автор семи книг стихов. Лауреат премии "Северная Пальмира" (1996).
Согласно желанию вдовы прах Иосифа Бродского будет перенесен из Нью-Йорка на венецианское кладбище Сан-Микеле
Лев Лосев
Реальность зазеркалья:
Венеция Иосифа Бродского
Судьба, случай, импровизаци перемещали Иосифа Бродского по планете в 1972 году. Кое-как уложившись в короткий срок, отведенный на устройство дел, 4 июня, подталкиваемый в спину сбирами госбезопасности, он пересек границу страны, где родился и провел безвыездно тридцать два года. Спустя три сумбурных, наполненных пестрыми впечатлениями месяца Бродский оказался в университетском городе посередине североамериканского континента в новой для себя роли преподавателя. Впрочем, и осень не получилась оседлой: приглашаемый нарасхват, он немало поколесил по Штатам. Бурный год подходил к концу. Наступили рождественские каникулы, когда университетские кампусы пустеют - студенты и профессора-ваганты разъезжаются по домам. Бродский уехал в Венецию.
Этому городу он посвтил первую большую вещь, целиком написанную в эмиграции, - элегию "Лагуна" (январь 1973). Вспоминая через двадцать лет свои первые венецианские каникулы, он опишет их осторожной и в то же врем парадоксальной фразой: "Это ощущалось как приезд в провинцию, в какое-то незнакомое, незначительное место, - может быть, на родину после многолетнего отсутствия" (Watermark, 8). Сходные впечатления: Венеци - провинция, Венеция - свое, родное место, отмечал Блок в письмах к матери из итальянского путешествия 1909 года: "[Ж]иву в Венеции уже совершенно как в своем городе, и почти все обычаи, галереи, церкви, море, каналы для мен - свои, как будто я здесь очень давно".
Родственное чувство, испытываемое русским поэтом к Венеции, нельзя объяснять банальным сравнением ее с Петербургом. (Тем более не является Венеция для Бродского эзоповской аллегорией отечественной тирании, как это происходит в "Охранной грамоте" Пастернака.) Такому чуткому к образам чужой культуры художнику, как Бродский, уже apriori было понятно, как по существу непохожи Венеци и Петербург. Родным ощущается скорее некий кумулятивный образ Венеции, венецианский текст, воспринимаемый с детства в контексте родной культуры. В "Watermark" Бродский описывает "венецианский субстрат" своего российского бытия: музыка Вивальди, полузабытые романы Анри де Ренье, черно-белая пиратская копи фильма (неудачного, по мнению Бродского) Висконти "Смерть в Венеции" (по новелле не любимого Бродским Томаса Манна), случайный номер американского журнала "Лайф" с фотографией Сан-Марко в снегу, набор старых открыток, лоскут гобеленной ткани с вытканным Palazzo Ducale, дешевый сувенир - ["маленькая медна гондола, привезенная демобилизованным отцом из Китая; она стояла у родителей на подзеркальнике, наполненная разрозненными пуговицами, иголками, почтовыми марками и - постепенно все больше и больше - пилюлями и ампулами"] (Watermark, 39). Маленькую венецианскую гондолу, заплывшую в детство чужеземного поэта, можно встретить и в "Итальянском путешествии" Гёте: "Отец привез из своего итальянского путешестви прекрасную модель гондолы. Он очень ею дорожил, и мне, лишь в виде особой милости, позволялось играть ею". Интертекстуальные отношения Бродского с Гёте, открывшим Италию не только для немецкой, но и для русской литературы нового времени, вполне сознательны. В 1981 году Бродский написал "Римские элегии", тематическое эхо одноименного цикла Гёте. Но литературные отголоски в творчестве Бродского всегда материализованы в реалиях собственного опыта, ведь и медная гондола, и отец, ее привезший из-за границы, были у автора на самом деле. Это надо иметь в виду, когда мы будем упоминать другие интертексты в посвященных Венеции вещах Бродского.
В "Watermark" венецианский текст русской литературы Бродский не упоминает, как само собой разумеющийся, а между тем написанное Бродским о Венеции в не меньшей степени, чем личным впечатлениям, обязано своим возникновением этому складывавшемуся на протяжении полутора веков тексту. Венеция была одним из обязательных общих мест ( ) в русском романтическом каноне, но возникла она там не из непосредственных впечатлений путешественников, а из восторженных чтений Байрона. Об этом говорит Пушкин в ХLIX строфе главы первой "Евгения Онегина":
Адриатические волны,
О Брента! нет, увижу вас
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!
Он свят для внуков Аполлона;
По гордой лире Альбиона
Он мне знаком, он мне родной.(Курсив мой. - Л.Л.)
При этом отмечаемые Байроном со свойственной ему иронической наблюдательностью приметы венецианского быта (поэма "Верро") или реалии венецианской истории (4-я песнь "Паломничества Чайльд Гарольда", драматические поэмы "Марино Фальеро" и "Двое Фоскари") русскими романтиками игнорировались. Дл своих воображаемых поэтических путешествий в республику Св.Марка они заимствовали у Байрона лишь экзотику, позднее растиражированную по всему миру в виде сувениров до такой степени, что они попадались даже среди домашнего скарба в ленинградской коммуналке. Самое характерное произведение русской романтической венецианы - "Венецианская ночь" (1825) Ивана Козлова, образец бесчисленных подражаний, первые три строфы ее были положены на музыку Михаилом Глинкой в 1832 году и стали популярным романсом:
Ночь весенн дышала
Светло-южною красой;
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной........................................................
Свод лазурный, томный ропот
Чуть дробимыя волны,
Померанцев, миртов шепот
И любовный свет луны,
Упоень аромата
И цветов и свежих трав,
И вдали напев Торквата
Гармонических октав.......................................................
По водам скользят гондолы,
Искры брызжут под веслом,
Звуки нежной баркаролы
Веют легким ветерком.
Описываемый Козловым пейзаж имеет мало общего с реальным ландшафтом окрестностей Венеции:
Уж в гондоле одинокой
К той скале она плывет,
Где под башнею высокой
Море бурное ревет.
Бурное море под скалой с башней - это условный романтический пейзаж (точно такой же, с большим основанием, описывает Козлов и в своих шотландских балладах). Цитрусовые растения (померанцы, то есть апельсины, более характерные дл итальянского юга, чем для Венето) - условная примета романтической Италии со времен гётевской Миньоны ("Kennst du das Land, wo die Zitronen bluhen?"). Так же условно в этом стихотворении изображение Байрона ("Подле арфа золотая, / Меч под факелом блестит"), и "красавица младая" с изумрудным талисманом "на персях белоснежных" - вряд ли точный портрет социально эмансипированной и политически активной венецианской подруги Байрона, графини Guiccioli.
Гондола, луна, баркарола, голуби на площади Св. Марка - из весьма ограниченного набора венецианских клише русскими поэтами XIX века было изготовлено огромное количество однообразных текстов:
Студена весенн волна
Едва шумит под веслами гондолы
И повторяет звуки баркаролы."Посади мен с собой,
Гондольер мой молодой, -
Близко до Риальто.
Дам тебе за труд я твой
Этот перстень золотой,
Перстень с бриллиантом"."Гондольер молодой! Взор мой полон огн,
Я стройна, молода! Не свезешь ли меня?
Я к Риальто спешу до заката!
Видишь пояс ты мой, с жемчугом, с бирюзой,
А в средине его изумруд дорогой?..
Вот тебе за провоз моя плата".Навстречу к нам гондола приближалась,
Под звук гитары звучный тенор пел,
И громко раздавались над волнами
Заветные слова: dimmi che m'ami.Плыви, мо гондола,
Озарена луной,
Раздайс баркарола
Над сонною волной.............................................................
Под Мостом Вздохов проплывала
Гондола позднею порой,
И в бледном сумраке канала
Раздумье овладело мной..............................................................
Скользила гондола мо над волной
Морского широкого лона.
Заката малиновый луч надо мной
Румянил лазурь небосклона..............................................................
Помнишь, порою ночною
Наша гондола плыла,
Мы любовались луною,
Всплескам внима весла. [...]
Мимо палаццо мы дожей,
Мимо Пьяццетты колонн
Плыли с тобою... О, Боже,
Что за чарующий сон!Последние пть - из стихов Великого княз Константина Романова, писавшего под псевдонимом К.Р., эстета и друга Достоевского и Чайковского.
Автоматическое использование венецианских клише давало иногда несколько комичные результаты:
Лежит Венеция златая
И машет веслами гондол."Лживый образ красоты" - называл эту условную Венецию Владислав Ходасевич, полемически построивший лучшее из своих венецианских стихотворений ("Нет ничего прекрасней и привольней...") из деталей сугубо прозаических:
К Риальто подплыва,
Вдохни свободно запах рыбы, масла
Прогорклого и овощей лежалых [...].
Потом зайди в лавчонку banco lotto,
Поставь на семь, четырнадцать и сорок,
Пройдись по Мерчерии, пообедай
С бутылкою Вальполичелла.Справедливость требует упомнуть и другое развитие венецианской темы в русской литературе классического периода, куда менее проявленное, но не менее важное, особенно для литературного сознания Бродского. Как-то автоматически предполагается, что мотив "смерти в Венеции" введен в европейскую литературу Томасом Манном. Между тем знаменитая одноименная новелла написана в период особенно глубокого увлечения Манна "святой русской литературой", и невозможно представить себе, чтобы такой чуткий читатель, как Манн, не уловил у своего любимого Достоевского этой сложной апокалиптической символики: гибнущая Венеци как самое прекрасное создание гибнущей европейской цивилизации, куда стремится движимый волей к смерти художник. "Я хочу в Европу съездить, Алеша, - говорит брату Иван Карамазов, - отсюда и поеду; и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вот что!" (Несколько десятков страниц спустя мы узнаем из слов Карамазова-отца, что "самое дорогое кладбище" для Ивана не Европа вообще, а Венеция: "Куда ты теперь, в Венецию? Не развалится твоя Венеция в два-то дня"). Есть и другие, немногочисленные, но влиятельные тексты XIX века с тем же "преддекадентским" мотивом. В Венецию привозит Елена умирающего Инсарова (Тургенев, "Накануне"). Старость, воспоминания об утратах, близость конца - темы венецианских стихов в поздней поэзии Петра Вяземского, одного из любимых поэтов Бродского.
Серебрный век, как принто называть необычайно плодотворный период в истории русской культуры, приблизительно совпадающий с первой четвертью ХХ столетия, значительно пополнил русскую венециану. Одной из характерных эстетических тенденций этого периода была эстетизация прошлого, "пассеизм", одной из характерных жанровых тенденций - стилизация. Авантюрно-эротический роман XVIII века стилизован Михаилом Кузминым в его "Из записок Тивурти Пенцля", "Приключениях Эме Лебефа" и "Чудесной жизни Иосифа Бальзамо, графа Калиостро", действие которых происходит отчасти в Венеции (возможно, и Анри де Ренье Бродский читал в переводе Кузмина), а фантастическая новелла, "гофманиана", - в таких вещах, как две новеллы под одинаковым названием "Венецианское зеркало" Александра Чаянова (1923) и Павла Муратова (1928). Перу последнего принадлежит великолепный травелог "Образы Италии" (первые два тома - 1911-1912, третий том - 1924), начинающийся и кончающийся элегическими описаниями Венеции. Наряду с книгой П.П.Перцова "Венеция и венецианская живопись" (1911) венецианские главы "Образов Италии" стали главным путеводителем в реальных и воображаемых прогулках по этому городу для русских поэтов и писателей Серебряного века, заменив "добродушного Рескина [Ruskin]" . Первый очерк в книге Муратова посвящается Венеции и называется характерно - "Летейские воды".
Смерть и красота, смерть красоты, красота смерти - на этой тематической основе писателями Серебряного века о Венеции было написано много прекрасных стихов и прозы. Бесспорный шедевр среди них - стихотворение Мандельштама "Веницейская жизнь" (1920).
Но есть три стихотворени, написанные трем мастерами этого периода, полемическа мажорна тональность и парадоксальность которых выводит их за пределы канонического меланхолического ряда. Это вышеупомянутый отрывок ("Нет ничего прекрасней и привольней...") Ходасевича и две "Венеции" - Ахматовой (1912) и Пастернака (1913, 1928). Полемично в них все: и отсутствие гробового мотива, и лексика - в подчеркнутом разрыве с каноном Пастернак и Ахматова называют гондолы "лодками", а Ходасевич впервые в русской поэзии использует это слово с итальянским ударением на первом слоге - "гондола" (в русском языке утвердилось произношение "гондола", видимо, потому, что удобно рифмовалось с "баркарола"). "Отрывок" Ходасевича начинается с психологического парадокса: "Нет ничего прекрасней и привольней, / Чем навсегда с возлюбленной расстаться..." - а стихотворения Ахматовой и Пастернака парадоксами заканчиваются: "не тесно в этой тесноте, / И не душно в сырости и зное" (Ахматова) и "Венеция венецианкой / Бросалась с набережных вплавь" (Пастернак). Венеция, которая прежде была лишь красивым фоном любовного свидания или смерти, предстает в этих трех стихотворениях как место назначения лирического паломничества - место, в котором перестают действовать обычные законы логики и психологии: там в тесноте не тесно, в духоте не душно, там утрата переживается как приобретение, там даже можно бросаться в самое себя. Словно бы пространство этого города, выражаясь в духе вышеупомянутого Ивана Карамазова, "неевклидово".
Поэтические странстви Бродского уже с ранней поры были словно бы вдохновлены той гравюркой из школьных учебников, где достигший конца света пилигрим из глубины своего капюшона заглядывает за orbis terrarum. Однако поиски счастливого метафизического пространства для этого поэта осложнялись тем, что метафизический дискурс в духе символистов в целом чужд его поэтике. Поэтому так фальшиво прозвучало в свое время название одной статьи о поэзии Бродского - "Прорыв в вечность". "Вечность", "беспредельность" и прочее "невыразимое" всерьез не существуют в словаре поэта, воспитанного на вещной, требующей конкретных образов поэтике петербургских акмеистов и таких близких к ним стилистически поэтов, как Пастернак и Ходасевич. Еще задолго до того, как поездка в Венецию стала для него реальной возможностью, в стихах Бродского океан становитс метафорой свободы от пространственных ограничений, а нарушение календарного цикла - метафорой свободы от ограничений временных. Таким побегом из "плена времени" и - распространим выражение Пастернака - пространства могла быть просто поездка в Крым поздней осенью:
Приехать к морю в несезон,
помимо матерьяльных выгод,
имеет тот еще резон,
что это - временный, но выход
за скобки года, из ворот
тюрьмы.(Конец прекрасной эпохи, 66-67)
Друга постонна метафора освобождени из плена времени у Бродского чисто христианская - Рождество. Звезда, остановившаяся над пещерой, где был рожден Спаситель, знаменует для него если не остановку, то перебой в беге времени. Венеция, которая стоит даже не на краю моря, а как бы в самом море, таким образом приобретает в дни Рождества исключительный статус в поэтической географии Бродского, статус места вне времени и пространства. Причем это не маловразумительный "провал в вечность", а гипертрофированно вещное явление: все, что глаз видит здесь, - произведение человеческого искусства. Кроме воды, которая эти искусственные сокровища отражает. Впрочем, по Бродскому, и наоборот - кружево венецианских фасадов отражает кружева морской пены (Watermark, 18). И нечто другое: "Как сказано, "Дух Божий носился над водою". И отразился до известной степени в ней - все эти морщинки и так далее. Так что на Рождество приятно смотреть на воду, и нигде это так не приятно, как в Венеции".
Если основна метафизическа характеристика Венеции на протяжении двух десятилетий остается неизменной, конкретный портрет города и автопортрет в городе претерпевают существенные изменения от "Лагуны" к "Watermark".
"Лагуна" (1973). Мощная апокалиптическа метафорика "Лагуны" рисует Венецию как некий корабль, то ли погружающийся, то ли уже погрузившийся в волны потопа: "бронзовый осьминог / люстры в трельяже, заросшем ряской", "звезда морская в окне лучами / штору шевелит". Герой же изображается как классический чужой, аноним в духе напитанной экзистенциализмом послевоенной литературы и кинематографа. Это проявляется не только в экзистенциалистских мотивах тошноты и отчаяни в подтексте, но даже и в описании:
И восходит в свой номер на борт по трапу
постоялец, несущий в кармане граппу,
совершенный никто, человек в плаще...(Часть речи, 40)
Мысли изгнанника обращены к родине под кошмарной властью предсказанных Достоевским бесов. Погружаясь в свои венецианские пучины, он показывает этому бесовскому воинству "итальянский салют" как жест, пародирующий их эмблему - серп и молот.
"Венецианские строфы", I-II (1982). Читая этот диптих, два абсолютно симметричных восьмистрофных стихотворения, несомненно относящихс к числу шедевров поэтического мастерства Бродского, понимаешь, почему Бродский не раз называл своими учителями Гайдна, Моцарта, Вивальди - гениев контрапункта и оркестровки. Обе части поражают детальной подробностью портрета Венеции. Изображается не просто наряженная толпа, а все разнообразие нарядов и украшений: епанчи, юбки, панталоны, плащи, гребень, жемчуг. Не просто дворцы и церкви, а конкретные архитектурные формы: колонны, аркады, капители, купола, шпили, пилястры, арки (сходным образом, из плавсредств не одни гондолы, но также шлюпки, моторные лодки, баркасы, барки и лодки мусорщиков). Самостоятельна объектность всех этих предметов усилена щедрым перечислением материалов (камень, диабаз, стекло, золото, жемчуг, сукно, мука, кирпич, мрамор, бязь, чернила, фарфор, хрусталь, бирюза, торцы) и зрительной, слуховой, осязательной, обонятельной конкретностью эпитетов и описаний. Тематически вторая часть является инверсией первой. Первая - наступление ночи, сужение пространства: от города к жилью, от жилья к постели, к телу возлюбленной. Вторая - наступление дня, расширение пространства: от постели и спальни до городских площадей и простора лагуны. Две части не только зеркально отражают одна другую, но и взаимно комплиментарны. Основной мотив первой складывается из переплетени музыкальных образов с образами подводного мира (потопа). Основной мотив второй - образы венецианской живописи ("Сусанна и старцы" Тинторетто, "Св. Георгий" Карпаччо, Венеры Джорджоне и Тициана) и воздушной стихии (облака, лазурь, солнечный свет). Эротичность "Венецианских строф" существенно отличает их от "Лагуны" (в "Лагуне" есть антиэротический мотив: постель - "набрякший слезами, лаской / грязными снами сырой станок", "горек [...] вкус поцелуев", упоминается снятое обручальное кольцо). Если композиционная модель стихотворения напоминает два соединенных одной вершиной конуса, то именно эта вершина и есть эротический фокус всей конструкции. Здесь мы находим образ "горячего зеркала", "с чьей амальгамы пальцем / нежность не соскрести". Этот образ, кроме всего прочего, еще и полемичен по отношению к "голубому дряхлому стеклу" Мандельштама из стихотворения, которое хотя и называется "Веницейская жизнь", но на самом деле посвящено умиранию.
"В Италии" (1985). Стоический "человек в плаще" все еще ценит анонимность, возможность "спрятаться в перспективу" Прокураций, но апокалиптическое и воинственное настроение сменяется состоянием эстетизированной резиньяции, словно за двенадцать лет почти постоянных приездов сюда Венеция научила визитера переживать "выход за скобки года" как прекрасное и находить в красоте ответ на самые крайние вопросы бытия. "Эстетика - мать этики", - скажет Бродский позднее. Интересно проследить прорастание венецианских знаков русской культуры в венецианских текстах Бродского. В "Лагуне" их нет, в "Венецианских строфах" уже упоминается русский венециофил Дягилев. А это небольшое, шестнадцатистрочное, стихотворение начинаетс с иронического портрета одного из русских литературных путешественников в Венецию, В.В.Розанова ("по улицам с криком "растли! растли!" бегал местный философ, тряс бородкой"), и содержит цитату из "Венеции" Ахматовой: "лучша в мире лагуна с золотой голубятней" ("золота голубятня" - первые слова стихотворения Ахматовой, характерный пример семантической поэтики акмеистов: с одной стороны, "голубятня" - это очевидная метафора площади Св. Марка, а "золотая" - традиционный эпитет, поэтический синоним "солнечного"; в то же время русское слово "голубятня" связано и с другим значением - голубого, синего цвета; золотое и голубое - основные фоновые тона и византийских, и венецианских мозаик).
"Watermark" (1991) - это нечто вроде колоссального литературного автопортрета с зеркалом, причем читателю не дано решить: то ли необыкновенный итальянский город смотрится в зеркало и видит русского поэта, то ли наоборот. Во всяком случае, город под пером Бродского испытывает те же ощущения, что и лирический персонаж, - озноб, болезнь, любовь, желание быть оставленным в покое.
Как уже говорилось выше, первое впечатление, испытанное поэтом в Венеции, это ощущение возвращения в родную провинцию (в поэтической географии Бродского города у моря всегда провинциальны, тогда как столицы империй, Рим, "первый" или "третий", расположены в удалении от моря). "Петербург - Северна Венеция", это затасканное клише из путеводителей всегда раздражало своей неосновательностью как петербуржцев, приезжавших в Венецию, так, вероятно, и венецианцев в Петербурге: несмотря на сходное количество островов, каналов и мостов, это города разительно несходные внешне. За исключением небольшого квартала, называемого Новой Голландией, в Петербурге нет зданий, непосредственно омываемых водой, что является самой характерной чертой Венеции, несоизмеримы масштабы широко раскинувшегося Петербурга и компактной Венеции, и, конечно, не похожи доминирующие архитектурные стили. Русский путешественник скорее обнаруживает в венецианской архитектуре московские черты - такую же причудливую смесь византийских и ориентальных мотивов, те же самые кирпичные затеи, например М-образные кренелюры, как на стенах московского Кремля, что и неудивительно, учитывая выдающуюся роль, которую сыграли Аристотель Фиоравенти и другие навербованные в Венеции итальянские зодчие, "фрязины", в строительстве исторического центра Москвы в царствование Иоанна III. Сходство между Венецией и Петербургом, так остро ощущаемое Бродским, не градостроительно-архитектурного, а драматического порядка. Нигде на земле, как в этих двух городах, не сталкиваются с такой драматической интенсивностью гармонизирующее человеческое творчество и стихийный хаос. К Венеции вполне приложимы слова, сказанные Достоевским о Петербурге: "Самый умышленный город в мире". Оба великолепных города возникли вопреки природе, "противоестественно", в местах, совсем непригодных дл человеческого обитания, усилием воли и экономического, политического, военного и художественного гения людей, и над обоими городами словно бы тяготеет эсхатологическое проклятие, угроза природы когда-нибудь вернутьс и забрать свое. Этой исторической и метафизической драмой определяетс чувство места, которое петербуржец Бродский, в первый раз выйд из вокзала Венеции, сразу же признает за свое. Оно приходит как мощный чувственный сигнал: "[М]еня охватило ощущение полнейшего счастья: в ноздри ударило то, что всегда было для меня его синонимом - запах мерзлых водорослей" (Watermark, 5). "Пахнущий водорослями встречный ветер с моря исцелил здесь немало сердец" (Ленинград, 22), - писал он прежде о Петербурге. И еще: "В Петербурге может измениться все, кроме его погоды. И его света. Это северный свет, бледный и рассеянный, в нем и память, и глаз приобретают необычайную резкость" (там же). И о Венеции: "Зимний свет в этом городе! У него есть необычайное свойство усиливать разрешающую способность глаза до микроскопической точности..." (Watermark, 29). Среди ощущений, складывающихся в единое петербургско-венецианское чувство места, - хрупкость, домашность, изящество. Они составляют основу метафоры, примененной автором к обоим городам: "[В Петербурге] громады зданий, лишенные теней, с окаймленными золотом крышами, выглядят хрупким фарфоровым сервизом. Так тихо вокруг, что почти можно услышать, как звякнула ложка, упавша в Финляндии" (Ленинград, 25-26) и "Зимой просыпаешься в этом городе [Венеции], особенно по воскресеньям, под звон бесчисленных колоколов, как будто за тюлем твоих занавесок в жемчужно-сером небе дрожит на серебряном подносе громадный фарфоровый чайный сервиз" (Watermark, 78) (и раньше, в "Лагуне": "Веницийских церквей, как сервизов чайных, / слышен звон..." - Часть речи, 40).
Известный в XVIII веке ученый, уроженец Венеции, граф Франческо Альгаротти, сказал: "Петербург - окно, через которое Россия смотрит на Европу". Пушкин сделал mot Альгаротти широко популярным, передав его в начале "Медного всадника" как мысль Петра: "в Европу прорубить окно". Бродский, который вслед за Достоевским считает Петербург неестественным для России городом, полемически видоизменяет крылатое определение: не окно в Европу, а зеркало Европы: "дворцы и особняки высятс над замерзшей рекой[.] Когда пурпурный шар заходящего январского солнца окрашивает их высокие венецианские окна жидким золотом, продрогший пешеход на мосту неожиданно видит то, что имел в виду Петр, воздвигая эти стены: гигантское зеркало одинокой планеты" (Ленинград, 22-23). "[В]се это не Россия, пытающаяся дотянуться до европейской цивилизации, - пишет он, - а увеличенная волшебным фонарем проекция последней на грандиозный экран пространства и воды. [...] Двадцать километров Невы в черте города, разделяющиеся в самом центре на двадцать пять больших и малых рукавов, обеспечивают городу такое водяное зеркало, что нарциссизм становитс неизбежным. Отражаемый ежесекундно тысячами квадратных метров текучей серебряной амальгамы город словно бы постоянно фотографируем рекой, и отснятый метраж впадает в Финский залив, который солнечным днем выглядит как хранилище этих слепящих снимков" (там же, 12).
Семиотические проблемы были в центре всех интеллектуальных дискуссий птидестых-шестидестых годов, и мотив зеркала как архетипического инструмента знаковости существенно представлен в творчестве поэтов того поколения: у Станислава Красовицкого, Евгения Рейна и других близких Бродскому поэтов. Более популярный пример - фильм Андре Тарковского "Зеркало". В поэтических текстах этот возрожденный романтический мотив чаще всего трактует зеркало как генератор опасных мнимостей, обозначающих (signifiers), потерявших связь с обозначаемым (signified), Doppelganger, "двойники, выходящие из стены" (по Красовицкому). У Бродского фантомному образу Петербурга как зеркального отражения Европы (см. выше) предшествует изображение всей родной страны, скрытой за фасадом "Петра творенья", как зазеркалья:
Старых лампочек тусклый накал
в этих грустных краях, чей эпиграф - победа зеркал,
при содействии луж порождает эффект изобилья.
Даже воры крадут апельсин, амальгаму скребя.(Конец прекрасной эпохи, 58)
Тот же мотив трагически представлен и в эротической лирике Бродского, где лирический герой теряет raison d'etre, свое значение, в разрыве с возлюбленной:
Я был только тем, чего
ты касалась ладонью...(Урани, 149)
Навсегда расстаемс с тобой, дружок.
Нарисуй на бумаге простой кружок.
Это буду я: ничего внутри.
Посмотри на него, а потом сотри.(Урани, 148)
Или как отражение без отражаемого:
[Я] взбиваю подушку мычащим "ты"
за морями, которым конца и края,
в темноте всем телом твои черты,
как безумное зеркало, повторяя.(Часть речи, 77)
Зеркало в этой системе образов дает возможность получить ответы на роковые вопросы романтического сознания: в чем тайна любовного томления? на чем основана сила красоты? как вырватьс из плена времени и пространства? Венеци - особое место на земле, потому что это город, славящийся производством зеркал, город зеркальных поверхностей, город-зеркало в метафорическом и метафизическом плане. Зеркальность Венеции проявляется (1) в ее отражающей способности, (2) в выявлении разного рода симметрий и, наконец, (3) в возможности посещения "пространства наоборот", неподвластного ходу времени и другим рациональным ограничителям.
И в "Лагуне", и в "Венецианских строфах" зеркала отражают жизнь, представленную в океанических формах: "Бронзовый осьминог / люстры в трельяже, заросшем ряской..." (Часть речи, 40); "Как здесь били хвостом! Как здесь лещами вились! / Как, вертясь, нерестясь, шли косяком в овал / зеркала!" (Урания, 103), а в "Watermark", напротив, сам океан, из которого поднимается Венеция, есть зеркало: ["Я всегда думал, что если дух Божий носился над водами, то водам приходилось отражать его. Отсюда моя нежность к воде, с ее складками, морщинами, морщинками..."] ( Watermark, 42-43). Если для романтического поэта XIX века, Тютчева, мировому океану еще только предстояло отразить лик Бога ("Когда пробьет последний час природы, / Состав частей разрушится земных: / Все зримое опять покроют воды, / И Божий лик изобразится в них!"), то для Бродского этот лик навсегда сохранен в памяти океанского зеркала, и читателю Бродского нетрудно развить concetti до конца: отражаясь в зеркале венецианских вод, отражаешься в лике Божьем, то есть происходит слияние с Абсолютом (или, как Бродский предпочитает говорить, со Временем). В другом месте это растворение себя в Венеции он описывает так: "[Я] даже разработал теорию сверхизбыточности, теорию зеркала, абсорбирующего тело, абсорбирующего город. Окончательный результат, как очевидно, - взаимное отрицание. Отражению нет дела до отражения" (Watermark, 22). Очень характерны антропоморфизирующие метафоры: проступающа из-под осыпающейся штукатурки кирпичная кладка венецианских зданий сравниваетс с клеточным строением человеческой плоти, лабиринт узких улиц - с мозговыми извилинами, а тускло освещенные подъезды - с воспаленным горлом. Кажется, что читатель имеет дело с гротескным автопортретом в духе Арчимбольдо - составленным из элементов урбанистического пейзажа. Собственно, автор так прямо и говорит вначале: "[С]частье, я полагаю, это момент, когда замечаешь свои собственные составные элементы в свободном состоянии. Довольно много было их там, в состоянии полной свободы, и мне казалось, что я вступаю в свой собственный автопортрет, написанный в технике холодного воздуха" (Watermark, 7). По своей основной структуре это та же метафора, что и бросающаяся в самое себ Венеция у Пастернака, но усложненная разнообразными лирическими и религиозными модуляциями. В контексте всего поэтического творчества Бродского это связано с одним из основных его мотивов: человек меньше / больше самого себя (ср. автобиографический очерк "Less Than One", что на русский следует перевести как "меньше самого себя", тему "части речи" в одноименном сборнике стихов и многое другое). В универсуме Бродского Венеци - единственное место, где этот парадокс-синекдоха находит счастливое разрешение.
В "Венецианских строфах" втора часть диптиха строго отражает первую, а в "Watermark" 26-я главка (стоящее особняком, как бы не имеющее прямого отношения к Венеции, рассуждение об отсутствии у человека адекватной реакции на смерть) является точным центром симметрии - ей предшествуют двадцать пять главок и за ней следует столько же. Можно без труда обнаружить ненавязчивую перекличку мотивов и образов в симметрически расположенных фрагментах. Для нашей темы интереснее постаратьс выявить симметрическую структуру в поэтической географии Бродского и определить место Венеции в ней. Образный мир Бродского обладает свойством выраженной географичности: приметы конкретного географического места почти всегда играют в его лирике важную роль. Большое количество стихотворений посвящено местностям, городам, городским районам. Карта поэзии Бродского разделена на северо-запад и юго-восток. Петербург, Венеци и Стамбул - три главных города в земном круге. Могут возразить, что в отличие от первых двух городов у Бродского нет стихов, посвященных Стамбулу, есть лишь большое эссе. Но "Стамбул", так же как и "Watermark", и эссе о Ленинграде, является своеобразной рекапитуляцией мотивов и образов, неоднократно варьировавшихс в лирике. В "Стамбуле" - это азиатские мотивы, из которых главный у Бродского мотив пыли, метафора полной униженности, обезлички человека в массе. Сухой, пыльный, безобразный Стамбул, столица "Азии" на карте Бродского, полярен влажной, чистой, прекрасной Венеции, столице "Запада" (как ареала греко-римской и европейской цивилизации). Родной же город на Неве - вопреки реальной географии - расположен посередине между этими двум полюсами, отражая своей зеркальной поверхностью "Запад" и скрывая "Азию" в своем зазеркалье. Так своеобразно оживает в творчестве русского поэта историческое соперничество Венецианской республики с Портой. В 35-й главке описываетс как нечто опасно инородное военный корабль мусульманской страны, с мачтами, напоминающими автору минареты (в композиционно симметрической 17-й главке автор вспоминает свой собственный первый полет в Венецию на самолете, который летит над океаном как большое Распятие).
Стройностью симметрического построени "Watermark" может сравниться только с "Поэмой без героя", magnum opus литературного ментора Бродского, Анны Ахматовой. В центр своего большого оракулярного, написанного, по ее словам, "зеркальным письмом" сочинения Ахматова помещает строки: "Только зеркало зеркалу снится", за которыми для русского читател открывается длинна перспектива таинственных зеркал в поэзии Ахматовой и в русской поэзии задолго до нее, начиная с прославленной баллады Васили Жуковского "Светлана" (1808-1812). Для Ахматовой Италия была сном, "который возвращается к нам до конца наших дней" (Watermark, 121), для Бродского это сон, в который он возвращается по крайней мере ежегодно. В своем литературном воплощении это сон гиперреалистический: все материальное видится в нем с той чувственной подробностью, какая несвойственна рассеянному и избирательному дневному мировосприятию, но, как и всякий сон, он открывает и фантастические возможности - увидеть большое внутри малого (целое внутри части), прошлое среди настоящего, мертвых живыми. Венеция в "Поэме без героя" - это прежде всего память:
Между "помнить" и "вспомнить", други,
Расстояние, как от Луги
До страны атласных баут, -пишет Ахматова, изщно обыгрыва формы имперфекта и перфекта русского глагола: память, длящаяся в реальном времени, ассоциируетс с реальной географией петербургского края (городок Луга, расположенный чуть подальше от Петербурга, но на той же линии железной дороги, что и родное для Ахматовой Царское Село), а дискретная память - с маскарадной Венецией. В "Поэме без героя" грандиозный поэтический проект освобождения из плена времени лучшего года жизни (1913), воскрешения мертвых друзей и врагов осуществляется в форме венецианского карнавала, где в толпе оживших призраков мелькают Казанова и Калиостро, а вся Венеция размещена где-то по соседству с крошечной комнатой Ахматовой в ленинградской коммунальной квартире ("Венеция дожей - / Это рядом..."). В более позднем сочинении, тематически связанном с поэмой, Ахматова превращает в воображаемое счастливое пространство музыку своего любимого композитора-венецианца: "Мы с тобой в Адажио Вивальди / Встретимся опять". Физически находясь в реальной Венеции, Бродский откликается на фантастические ахматовские мотивы. У него это чудесные случайности (бесцельно бродя по городу в дни наводнения, он вдруг обнаруживает себя стоящим перед церковью, где крестили Вивальди, "который столько раз доставлял мне столько радости в разных богом забытых уголках земли" -Watermark, 93), "антиевклидовские" ощущени ("Разумом я знал, что [анфилада дворцовых комнат] не могла быть длиннее галереи, параллельно которой она проходила. Но она была" - Watermark, 53) и воспоминания галлюцинаторной силы (в предпоследней главке он, не используя никаких сослагательных модификаторов, пишет о том, как ночью заглядывает в окно кафе Флориана - "внутри был 195? год" (Watermark, 133) - и видит там Одена с друзьями-поэтами).
***
В одной русской сказке герою отдаетс приказ: пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Какие бы зигзаги ни совершал по земле лирический герой-пилигрим Бродского, его окончательное место назначения - это утопия, место "не-знаю-куда", Венеци как "неевклидово пространство", где часть превосходит целое и прошлое наличествует в настоящем. Что же привез он оттуда? Несколько стихотворений, из которых наиболее связаны с Венецией "Лагуна" (1973), "Венецианские строфы, I-II" (1982), "В Италии" (1985), "Однажды я тоже зимой приплыл сюда..." (1992) и "Лидо. Венеция" (1992).Однако главное сокровище, подлинное "то, не знаю что" - "Watermark" (1989). Читатель, вероятно, заметил, что автор этой статьи избегал определения жанра "Watermark". Это произведение на всех уровнях текста - от семантической структуры до ритма - построено по художественным законам, в путевых очерках и мемуарных произведениях текст организуется по другим принципам. Но нет в нем и вымысла в привычном смысле слова: все, что описывается, берется из реального жизненного опыта автора. Назвать это "поэтической прозой", "прозой поэта" нельзя не только потому, что такое название пошловато и ничего не определяет, но и потому, что среди несомненных антецедентов "Watermark" в этом жанре - не только "Охранная грамота" Пастернака, проза Мандельштама, Цветаевой, но и проза Шкловского, и многое у Розанова, а у истоков "Дневник писателя" Достоевского. То, что мы затрудняемс определить жанр прозы Бродского, говорит о том, что это все еще новое явление в литературе. Бессмысленно придумывать термин (само это слово несет в себе семантику окончательности) для того, что живет. Но талантливый читатель может описать с большой точностью свои впечатления от необычного текста, как это сделал Джон Апдайк в рецензии на "Watermark": ["Когда читаешь "Водяной знак", восхищает отважная попытка добыть драгоценный смысл из жизненного опыта, превратить простую точку на глобусе в некое окно на вселенские условия существования, из своего хронического туризма выделать кристалл, грани которого отражают всю жизнь, с изгнанием и нездоровьем, поблескивающими по краям тех поверхностей, чье прямое сверкание есть красота в чистом виде"].
Источник: http://magazines.russ.ru/inostran/1996/5/losev.html
